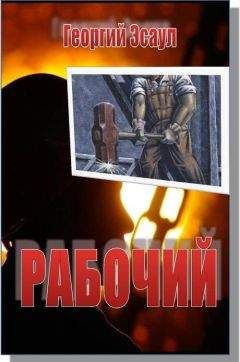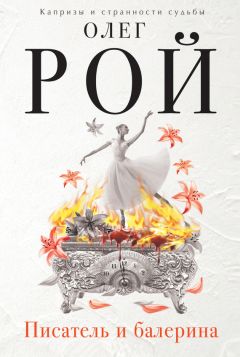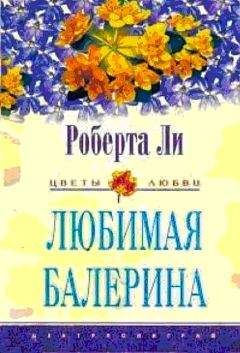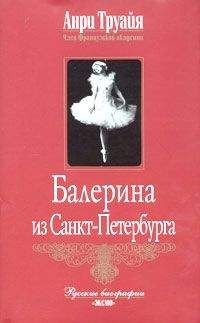Под юбкой у приличной женщины — мужские причиндалы, как у осла.
Время, веянья, мода, но причиндалы зачем?
Я потом свою руку драил, как Сидорову козу, как ржавое ружье.
Пью тоже по причине нервного расстройства, а не по празднику!
Слава труду!
Мир! Труд! Май!
— Мир! Труд! Май! — Лёха подхватил громко, вытащил фляжку, отхлебнул и пустил по кругу, словно трубку Мира Чингачгука.
— Мир! Труд! Май! — заводчане громыхали: и нет санкций против России, нет войны на Украине, нет ненависти к россиянам от всех наций с бледными лицами, пусть даже бледные лица черного цвета.
Рабочий класс широко шагает, глубоко пашет, пока не упадет!
Вдруг, Лёха почувствовал сильнейший рывок — так захватывает наживку пудовый сом и тянет, тянет в омут.
Лёху вырвало из рядов трудящихся, потащило в хилый лесок, словно волосы на голове старого зека.
Настюха вела Лёху, не отпускала, держала крепко за руку, словно она — змеелов, а Лёха — змея.
Они зашли за широкий тополь, Настюха почти швырнула Лёху к дереву, прижала и крепко-крепко целовала его в губы со страстью молодой кобылицы.
Лёха сначала стеснялся, но не от неопытности стеснялся, а потому, что не ожидал, что Настюха, которая грезила о карьере певицы международного масштаба и не давала поводов для ухаживания, сейчас сама налезала, как стружка с детали падает на станину.
Девушка оторвалась, но Лёху держала не губами, а руками, боялась, что он убежит под грохот Праздничных барабанов.
— Не пугайся, Лёха! Лови миг удачи!
Я просто так тебя захотела, мелькнуло — и взяла напрокат, как катер на подводных крыльях.
Постоим, выпьем, пообжимаемся — какой же праздник рабочий без этого? — и своих догоним, снова в строй.
Я себя на тебе не погублю, потому что у меня впереди звездная дорога эстрадной певицы, а ты останешься на заводе, оттого, что воли в тебе нет.
Воли нет, а сила мужская в избытке, словно ты не рабочий, а — электрошкаф. — Затем Настюха внимательно посмотрела в глаза Лёхи, положила правую руку его себе на левую грудь, а левую руку — на правую ягодицу.
Лёха перевел взгляд на грудь Настюхи, дико вскрикнул от радости — миг, но зачем думать о завтрашнем дне, если, может быть, завтра халат намотает, а сегодня — праздник и будущая эстрадная певица жаром пылает.
С увлечением Лёха набросился на Настюху, мял её, пробовал на зуб, всасывал — так молодой теленок скачет по весеннему клеверу.
Настюха дарила жар своего тела жар-птицы, но говорила, говорила, потому что — женщина:
— Утром я пела, я всегда пою по утрам и вечерам, но без сырых яиц пою.
Врут, будто сырые яйца влияют на голос положительно.
На желудок сырые яйца влияют отрицательно, сальмонелла их побери.
Присела на диванчик — дай думаю, пропущу рюмашку перед работой, а потом сама же себя по рукам — хлоп: нельзя — я певица и рабочая девушка, как резиновая Зина.
Рюмка потянет за собой другую рюмку, а потом — и карьера певицы — поминай, как звали кладбищенской сторожихой.
Сидела, размышляла, собиралась с мыслями, при этом чувствовала, что поражена в сердце печалью, но нет объяснения удивительной печали — так утка никогда не объяснит кабану почем фунт лиха.
Ложь мне от меня же, но во спасение лжи и меня.
Тут мне на ногу утюг свалился со стола, холодный утюг и непонятно по какой причине упал, словно пере-зревшая груша.
Если бы я жила в Африке, то сказала бы — пере-зревший банан.
Утюг меня привел в чувства, и я вспомнила: сегодня Праздник, нет работы! Огого!
Можно и по маленькой, а потом — на демонстрацию!
Все выветрится, улетит через феромоны.
Для себя живем!
Иыых!
Подайте мне вороных!
Разгони, Лёха, мою кровь!
Пусти на волю душу, потому что опасность неминуемая боится рабочего класса!
Наливай Лёха, по полной!
Мы не в Турции!
Тискай же меня, Лёха, тискай! — Настюха закинула голову и захохотала так звонко, что белки полетели с дубов и тополей.
Через двадцать минут Лёха и Настюха догнали товарищей, встали в, уже поредевший и падающий, строй — так кулик возвращается на родное осушенное болото.
Митяй сидел на земле и радостно улыбался Солнцу!
Серега спал, Елена что-то со стаканом в руке доказывала краснолицему, как закоротнувший гвоздь, Коляну.
Елена быстро налила и протянула стакан Настюхе, а Колян подал Лёхе бутылку — пей из горла, как гусь.
Праздник окутал трудящихся, и стало на душе Лёхи легко, воздушно, словно не праздничные шары в небе летели в стратосферу, а он, Лёха, со станком поднимался в Рай для рабочих.
Лёха выпил, посмотрел на Настюху и широко, по-рабочему улыбнулся:
— Во как!