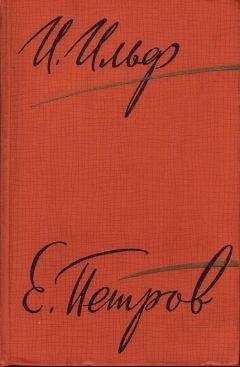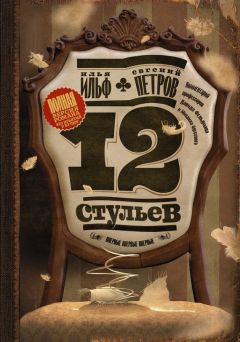Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков.
На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.
— Можно, — говорил он, — это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся.
Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.
— Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку!
— Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
— Сколько же вы хотите?
— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.
— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.
— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
— Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь.
— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? — пытал Остап.
— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
— Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу.
— Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер, — а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.
— Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк. Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова.
— Снимите пиджак, предводитель, поживее, — сказал он неожиданно.
Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.
— Что вы делаете? — завопил Воробьянинов. — Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
— Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!
Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.
— Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
— Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов.
— Французский язык знаете, надеюсь?
— Очень плохо. В пределах гимназического курса.
— Гм… Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?
— Мосье, — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, — мосье, гм, гм… же не, что ли, же не манж па… шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк… сис… сис… жур. Значит, же не манж па сис жур.
— Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в Европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?
— Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич.
— Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор по ступит монтеру Мечникову. Поняли?
Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его вы гнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.
— Ай-яй-яй, — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, — посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!
— Никогда, — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руки.
— Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки?
— Не протягивал.
— Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою к воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он… Hy! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз…
— Да, — пробормотал предводитель.
— В таком случае повторите заклинание.
— Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте чтонибудь бывшему депутату Государственной думы.
— Еще раз. Жалостнее!
Ипполит Матвеевич повторил.
— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто — вечером больше подают.
— А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете?
— Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.
Друзья разошлись.
Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.
— Прежде всего система, — бормотал он, — каждая общественная копейка должна быть учтена.
Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха.
Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.
Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.
Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей:
«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».
И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.
Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек! Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:
— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?
— Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза — десять копеек и не членам профсоюза — тридцать копеек.
Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было, Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
— Членам профсоюза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком провалился.
В то время как великий комбинатор ловко торговал видом па малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы: