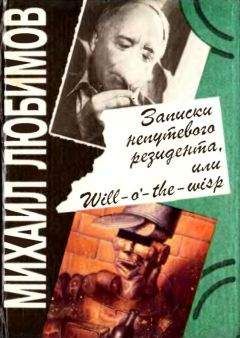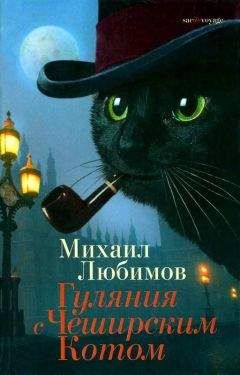Я вскоре уехал, она продолжала работать, я уехал, навсегда запомнив тот звездный миг, я уехал и больше никогда не видел ее.
Почему она стала работать с нами? Почему пошла на риск? Ведь не ради омаров и «Мумм», а те ничтожные подарки от нас составляли десятую часть ее зарплаты! Денег не брала, считала это унизительным. Почему не боялась ни ареста, ни тюрьмы, ни расстрела? Почему помогала, хотя терпеть не могла ни коммунистов, ни Страны Советов?
Загадка человеческой души.
Через пару лет мы встретились с коллегой, которому я передал Катрин на связь, сидели, пили кальвадос и трепались, и вдруг он вспомнил: «Ты знаешь, старик, какой номер однажды отмочила наша бабушка? Когда я собрался уходить, она вдруг вскочила и подняла юбку: «Ты видел когда-нибудь такие красивые ноги? — «И как ты реагировал?» — спросил я. — «Сказал, что действительно ничего подобного в жизни не встречал!»
Я хотел посоветовать ему читать бабушке вслух Т. С. Элиота, но промолчал, чтобы не обидеть, — парень был ранимый и сам писал стихи.
…пьют молоко летучих мышей и кошек, рыбу ловят руками, во время еды прячутся или закрывают глаза, а все остальное делают не таясь, подобно философам-циникам. Сжирают сырыми трупы жрецов и королей, дабы впитать в себя их достоинства.
Хорхе Луис Борхес
Я еще на пути к «Националю». Гена, я еще топаю по жаркой улице Горького, всматриваясь в прохожих, и крутится в голове какой-то легкомысленный мотивчик на старый стих, посвященный прекрасной и единственной в тот прекрасный и единственный час в том прекрасном и единственном городе, что-то вроде «а я себе гуляю и сигареткой балуюсь, смотрю, переживая, на проходящих барышень»[90], тянется мотивчик, словно ничего не изменилось, может, мы просто бежим на месте, как кэрролловская Красная Королева, и этот толстый солидный дядя с плешью, скользящий подслеповатыми глазками по мелькающим ножкам, и есть тот самый я, баловавшийся сигареткой?
В 1985 году медленно, тонкими намеками началась перестройка, возбуждая больше любопытства, нежели веры в будущее, — все так обрыдло, что даже фантазия не фонтанировала.
Я еще купался в театральной славе (пьесу показали в обществе слепых, и мы с режиссером там выступали с разъяснениями о терроризме США, срывая аплодисменты), спектакль бороздил просторы Поволжья и Украины, рассказывая простым советским людям о зловещем ЦРУ, ненавидевшем всех хороших людей и лившем вокруг кровь.
Иногда я позванивал коллегам в родной отдел (говорили со мной, как с назойливой мухой, хотя я ничего не просил), пару раз поздравил Витю, уже первого заместителя начальника разведки, с какими-то юбилеями («Надо бы увидеться», — заметил я. «Надо бы», — отозвался Витя безрадостно), ты, Гена, кажется, в 1983 отчалил в ГДР на ключевое место шефа, по важности одновременно члена коллегии КГБ.
Гордиевский уже два года бился насмерть в туманном Альбионе, в основном со своими начальниками, которые не давали ему ходу, видимо, кожей чувствуя, что он принадлежит к когорте тайных англосаксов, с ним мы переписывались, хотя мне не нравилось, что он отвечал с большим опозданием, иногда даже одним письмом на мои два, — власть портит людей, заместитель резидента в Лондоне — это шишка, хотя, конечно, червяк по сравнению с тобою и Витей…
«Дорогой Михаил Петрович! Очень рад за Вас в связи с успехами на театральном поприще. С интересом слежу за Вашим прогрессом здесь и буду счастлив вместе с Вами, когда произойдет всероссийская известность (в то же время моя преданность Вам и признательность сохранятся неизменными, даже если, вопреки ожиданиям, она и не придет)…»
Рисунок Кати Любимовой
А вот из другого:
«…Моя жизнь здесь, к сож-ю,[91] не отвечает Вашим рекомендациям. Борьба за самоутверждение продолжается. Дни, недели и месяцы проходят в тех заботах, которые Вам хорошо известны, причем с изрядной долей утомления и перенапряжения. Я не вижу тех прелестей, о которых говорите Вы, — театра, концертов, выставок, музеев и пр. Моим утешением является лишь 3-я программа радио, которая передает только серьезную музыку, и я ее слушаю постоянно».
Бедняга.
Мы иногда виделись во время его отпусков, приглашал он меня в бар отеля «Спорт» недалеко от его дома, угощал вылетевшего из седла шефа ужином и баловал сувенирами, попутно кляня своих начальников в Лондоне, не разбиравшихся в политической разведке. Правда, тебя, Гена, и других боссов в Москве не трогал: кто знает? вдруг я сниму телефонную трубку…
И вот майский вечер 1985-го, телефонный звонок, неровный голос Олега Антоновича: «Я вернулся, кажется, навсегда, меня отозвали», — трубка звучала пришибленно, я в это время стоял в трусах[92] (до странности душный вечер), с огромной хрустальной (!) чашей, наполненной красным вином, ее, между прочим, я приобрел в Вене во время секретной миссии (в ушах звучит знакомый венский вальс).
Когда в палящий зной стоишь в трусах и с чашей, очень неплохо получаются дружеские советы глобального характера, особенно когда не знаешь, что собеседник работает на вражескую разведку, — отсюда и моя реакция: «Плюнь на все, старик! Защищай кандидатскую, у тебя ведь отличная голова! (Не ошибся, даже недооценил.) Или подавай в отставку!» (Понятно, что нет ничего лучшего для подражания, чем собственная неповторимая биография.)
Мы договорились встретиться, и через пару дней Гордиевский прибыл в мою неприхотливую квартирку, что дышит прохладой в глухой тишине истинно московского двора (выпало это чудо в результате размена с Тамарой роскошных апартаментов на Ленинском), жемчужину двора, Гена, являет собою великолепная помойка в виде четырех железных ящиков, из которых два ящика дворник с женою перевертывает, дабы их не заполняли страждущие, естественно, мусор летает по всему двору, и не постичь тайну дворника: зачем ему нужен грязный двор? почему бы не выставить все четыре ящика?
Во дворе всегда что-то роют, страсть как любят отключать отопление, часто паяют лопнувшие трубы, один работает, остальные толпятся у ямы, глазеют, курят или отходят к скамейкам и деловито пьют портягу.
— Друзья-рабочие, дорогие товарищи, когда дадите, голубчики, нам, жильцам, тепло?
— Да иди ты на…
Итак, Гордиевский прилетел ко мне на рандеву, его вид сразил меня наповал, словно явление покойника: бледен, как полотно, трясущиеся руки, нервная прерывистая речь — впрочем, сейчас мне все понятно: попробуй походить под слежкой, зная, что вот-вот схватят, скрутят и быстренько, без проволочек, кокнут.
История, которую он поведал, хлопая рюмку за рюмкой (весьма новый феномен, ибо я считал его одним из немногих трезвенников в ПГУ, под стать самому Крючкову), несла в себе печальные черты ужасов 30-х годов: недруги обнаружили у него на лондонской квартире книги Солженицына и других диссидентов, взяли в разработку, и вот сейчас, когда его должны утвердить владыкой-резидентом, материалы реализовали, дали подножку и вызвали на «совещание» (жена с детьми осталась в Лондоне, Центр действовал по всем правилам, боясь спугнуть дичь).
Далее он рассказал, что генералы Грушко и Голубев устроили на даче в Ясеневе ужин, угощали его водкой, которая вызвала у него смещение мозгов[93]. Грушко вскоре ушел, а Голубев начал задавать вопросы, словно вел следствие, — удержался Гордиевский лишь неслыханным усилием воли. Тут я поднял его на смех: никогда не слыхивал я, чтобы психотропные средства опробовали на кандидатах в резиденты, это уж его мнительность! (Оказалось, что нет.)
Всю историю с диссидентской литературой хитроумный Гордиевский рассчитал блестяще — ведь Солженицын, Зиновьев, Оруэлл, Замятин, замаскированные невинными Пушкиным и Лермонтовым, занимали у меня целые полки, весь его рассказ о сталинских нравах в ПГУ вонзился в мое сердце как стилет, да и прыти прибавил: на следующее утро я погрузил в чемоданы наиболее компроматную литературу, повертелся на машине по переулкам и отвез к надежному другу, а несколько книг завернул по рецептам подполья в непромокаемые резины и пластики, засунул в портативный датский сейф и закопал на даче рядом с фонарным столбом (ориентир) — разрыл лишь через год и с горечью обнаружил, что ка ил я точит не только камень, Гена, но и сейфы: вода подпортила книги и тайные мои дневники, плохой я конспиратор, куда мне до Солженицына, укрывавшей) целые собрания своих рукописей.
До сих пор скорблю по известной книге Сахарова, которую сжег, считая самым страшным вещественным доказательством моих преступлений, — Боже, а ведь был всего лишь 1985 год! какой путь пройден с тех пор, как тяжело было выползать из трусости и подниматься с колен!
Все же я не выдержал и позвонил тогдашнему начальнику отдела, моему бывшему заму в Дании (после Гордиевского): «Что там стряслось с Олегом? На нем лица нет! Разве можно доводить человека до такого состояния?!» Начальник был невнятен и сдержан, что-то пробормотал насчет кагэбэшного санатория в Семеновском, где снятый резидент должен излечиться, — туда вскоре Гордиевский и отбыл.