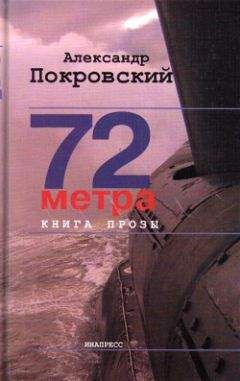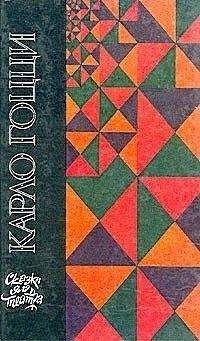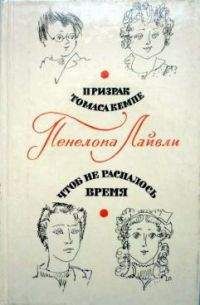А дневальные, не говоря о том, что они в завершение всего этого мероприятия срут три дня не переставая, они еще и заиками могут остаться.
– А что же они у вас так плохо физически подготовлены? – только и слышно от командира этих циклопических уродов. – Что ж они так виртуозно срут даже при помещении в мешок?
– Они… при чем здесь… Все! Я еду к командующему!
Потому что ваши негодяи вдобавок ко всему вчера утащили сейф из учебного отдела!
– Да нужен нам ваш сейф из учебного отдела. Храните там всякое дерьмо относительно своего говенного учебного процесса. «Совершенно секретно. Обучение головой вперед». Тоже мне открытие. Мы и вскрыли его очень аккуратно. У нас тут есть специалист. Даже дверь не повредили. Сегодня же ночью назад притащим. Даже не заметите.
– А-к… А-к… – пытается что-то сказать командир. – Завтра, – говорит он наконец. – Завтра в восемь утра я поеду к командующему!
– На катере поедете? – вежливо у него поинтересовались.
– Да! Да! На катере! На катере!
– Хорошо.
Утром у катера отсутствовали винты.
Постскриптум:
– Дебильный рассказ, – сказала моя жена, – я лично ничего не понимаю.
– Водоплясов! Ты знаешь, какая у тебя фамилия? Водоплясов! То есть «пляшущий по воде», понимаешь? То есть легкий, воздушный. А ты что пишешь мне здесь ежедневно? Слово «шинель» через две буквы «е»?! Ты чего, Водоплясов?!
Я через полуоткрытую дверь каюты слышу, как начштаба отчитывает молодого писаря.
– Слушай меня, Водоплясов! В русском языке есть слова. Их там много. Среди них попадаются глаголы и существительные. А есть прилагательные, понимаешь? А? И есть наречия, числительные, местоимения. Они существуют отдельно. Это ясно? Хорошо. Уже хорошо. Уже не безнадежно, Водоплясов. А когда их, эти самые слова, составляют вместе, получаются предложения, где есть сказуемые, подлежащие и прочая светотень. И все это русский язык. Это наш с тобой язык. У нас великий язык, Водоплясов! В нем переставь местами сказуемое и подлежащее – и появится интонация. Вот смотри:
«Наша Маша горько плачет» и «Плачет Маша горько… наша». А? Это же поэзия, сиськи на плетень! Былины, мамина норка! А есть предложение в одно только слово. Смотри: «Вечереет. Моросит. Потемнело». Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды! Ты чувствуешь? Да ни хрена ты не чувствуешь! У тебя ведь член можно сломать, пока до конца абзаца доберешься! Где тебя научили так писать?! Кто тебя научил?! Покажи мне его, и я его убью! Зверски зарежу! Я его расковыряю. Я отомщу за тебя, Водоплясов! За твое неполноценное среднее образование. Когда я читаю все, что ты тут навалял, я же чешусь весь в нескромных местах многократно!..
Я отхожу от двери. Я думаю о Водоплясове и начальнике штаба и о том, что они, в сущности, очень подходят друг другу. Мало того, пожалуй, друг без друга они уже не могут существовать, потому что не могут обойтись без этих обоюдных встряхиваний, и еще я думаю о том, как все в этом мире устроено таким замечательным образом. Как в калейдоскопе – чуть тронул картинку, и она сбивается только на какое-то неуловимое мгновение и только затем, чтоб опять сложиться в чудесный орнамент. В этом месте я вздыхаю – ах! А утром опять полуоткрытая дверь в каюту начальника штаба, и из-за нее:
– Водоплясов! Ну-ка, иди, сука, опять сюда!..
И все, видите ли, с самого начала.
Не случалось ли вам, будучи капитаном первого ранга, попадать в глубинку России, где жители при встрече останавливаются, поднимают ладонь ко лбу и вглядываются в тебя, как в горизонт, где девушки смущаются, молодухи улыбаются, а козы провожают удивленными взорами?
А мне случалось.
Только нас было целых три капитана первого ранга, и что мы делали в этом сердце России, я не очень отчетливо помню.
Припоминается стол и то, что мы за ним сидим, и Дима Пыньев, начальник штаба, теперь уже неважно какого, с рюмкой в руке держит речь.
Он говорит. «Родина… (дальше не помню)… честь имею…
(совершенно как-то ничего)… плоть от плоти… (ну надо ж такому.)… все как один… (Аладдин, по-моему)…»
А потом внезапно наступает ночь, и мы уже бредем по улице – это явно село, но вот вдали показался трамвай, и нам вдруг становиться ясно, что это последний на сегодня в этой жизни трамвай и до остановки нужно бежать, чтоб успеть, и мы было даже побежали, но Дима Пыньев, начальник непонятного штаба, вдруг говорит: «Мы же капитаны первого ранга! А капитаны первого ранга не бегают за трамваем! Капитаны первого ранга идут до трамвая строевым шагом!» – после чего он переходит на строевой и идет к остановке, а мы – чуть было не растерзались – так нам захотелось успеть, но как тут успеешь, когда этот раненный в голову с детства идет строевым…
И вы знаете, мы все-таки успели.
Может быть, потому, что это был последний трамвай и, собственно говоря, почему бы ему не подождать трех капитанов первого ранга, два из которых пытаются до него доскакать на подгибающихся, нетрезвых ногах, а один идет строевым шагом, а может быть, трамвай был потрясен тем, что увидел ночью такую удивительную кавалькаду, или он пожалел Диму Пыньева, начальника непонятного штаба, идущего строевым посреди села.
Дрянь!
Боже ж ты мой, какая мерзость!
Она живет у меня на боевом посту. Только я зазеваюсь – а она уже поползла на брюхе к помойному ведру. Ползет, а сама смотрит мне в глаза, скотина! Я как-то задремал и вдруг – как током – поднимаю голову, а она смотрит. Меня всего передернуло Мерзость. И никак ее не прихлопнуть. Я и так, и этак – никак. В ловушку не идет. В петлю тоже. Будто знает все. И еще: чувствую, кто-то рядом есть, обернулся – уже юркнула. Только хвост мелькнул. Как же ее укокошить?
Я называю его – мой Большеног. Он такой непомерно огромный и ужасно бестолковый. Увидит меня – затопает ногами, закричит. Он очень нервничает, когда меня видит.
Но я и так стараюсь его не беспокоить. Часами высиживаю в укромном уголке, только бы его не спугнуть. А то устроит такой тарарам.
Я даже в наше хранилище пробираюсь ползком. Полегоньку.
И все же, мне кажется, я хорошо его изучила. Когда он засыпает в кресле, я спускаюсь по тесемкам его папок вниз. Они удивительно невкусные – эти папки с тесемками, и годятся только на то, чтоб я по ним спускалась.
Мне очень хочется до него дотронуться. Хочется его обнюхать, потому что при таком тесном существовании эти детали необычайно важны.
Мы совершенно одни, если не считать того, что временами он куда-то исчезает и его место занимают другие. Но тогда я не выхожу. Хватит с меня и одного Большенога. Это очень утомительно кого-либо так изучать. Надо когда-то отдыхать.
Мне кажется, она меня нюхала! Да-да-да! Что-то такое было. Дуновение. Шерстинка по лицу. Паутинка. Если это так, я с ума сойду.
Его запах осязаем. Он ощутим на значительном расстоянии, и по нему можно даже судить о его настроении: резкий, мускусный аромат говорит о волнении; невыразительный, с горчинкой в самой середине вдоха – об успокоении, слабый, сладковатый – о сне.
И все-таки я понюхала его с близкого расстояния. Не то чтобы в этом была жгучая необходимость, но, знаете, может, вблизи все выглядит совсем по-иному. Разочарования не последовало. Запах не самый приятный, но выдержать можно.
Я могу часами смотреть на его лицо. В нем надо поймать выражение потерянности, когда взор ко всему безразличен, когда все опостылело. Это значит, что он скоро уснет, и тогда можно будет проскользнуть.
Иногда меня так и подмывает его испугать, но я себя сдерживаю. Зачем все это. Крошек теперь и так много, и все эти походы к ведру давно уже чистое наслаждение.
Мне показалось, что где-то пахнет. Говорят, они метят мочой те места, где ходят. Не хватало только, чтоб у меня здесь все провоняло этой тварью. Я даже нюхал ее тропу, но, по-моему, ничего…
Я застала его за странным занятием. Он опустился на четвереньки и шумно втягивал носом воздух. Мне всегда казалось, что большеноги лишены обоняния, и я была приятно удивлена тем, что это не так. Хотя, наверное, большая часть самых восхитительных запахов ему недоступна.
Она ко мне прикасалась! А я весь съежился и стал маленьким, а она большой. Улыбнулась и говорит: «Не бойся меня». Это был сон. Я спал. Ужас. Проснулся в испарине. Нужно наладить мышеловку. А то всякий раз пружина спущена, приманки нет.
Он ставит на тропе эту недоразвитую дощечку с железкой. В ней ощущается напряжение, и я его чувствую. Когда я была совсем маленькой, Узкорыл научил меня ею пользоваться. Нужно ухватиться зубами за самый краешек и хорошенько встряхнуть. Произойдет удар, напряжение спадет и можно будет забрать свой приз.
Говорят, они переносят массу болезней. Как подумаю об этом, так и чешусь.
Наш Большеног совершенный чистюля. Он ухаживает за своей шкурой, постоянно поскребывается. На тропе я опять обнаружила металлическую окантовочку. Она прикручена к стойке. Неприятная штука. Ее нужно миновать осторожно. Иначе можно попасться. Затянет на шее или на поясе.