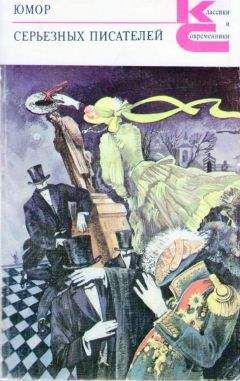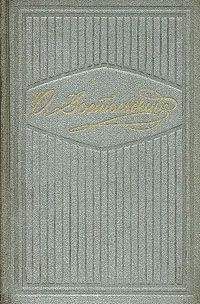Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.
Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыханья было не слышно у поручиковых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол.
Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья.
В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский С.-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему незнакомый город.
Тогда он понял, что умер.
8
Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянною ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время.
Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал.
На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову.
Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.
— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Киже.
— Кто таков?
Страх становился легче, он получал фамилию.
Этот вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.
— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.
— Для чего кричал? — император притопнул ногой. — Слушаю, сударь.
Адъютант помолчал.
— По неразумию, — лепетнул он.
— Произвесть дознание и, бив плетьми, пешком в Сибирь.
9
Так началась жизнь подпоручика Киже.
Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг, а так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.
Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией.
Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось лицо, правда — едва брезжущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном.
Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу — и Сибирь.
Это была действительность.
До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта.
Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были его собственным, личным делом.
Приказ должен быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь.
И так сделалось.
В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже.
В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.
Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был. Солдаты, нахмуря брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда.
Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.
Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом, не друг на друга, но на место, заключенное между ними.
В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, то все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе.
Но вечером он вдруг заворочался на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом:
— Дяденька, а кто у нас императором?
— Павел Петрович, дура, — ответил испуганно старик.
— А ты его видал?
— Видел, — буркнул старик, — и ты увидишь.
Они замолчали. Но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять.
— А ты почто спрашиваешь? — вдруг спросил старик у молодого.
— А я не знаю, — охотно ответил молодой, — говорят, говорят: император, а кто такой — неизвестно. Может, только говорят…
— Дура, — сказал старик и покосился по сторонам, — молчи, дура деревенская.
Прошло еще минут десять. В казарме было темно и тихо.
— Он есть, — сказал вдруг старик на ухо молодому, — только он подмененный.
10
Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня.
Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев.
Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не чувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может, и нет.
Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: «гобой любви» в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу, и эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд.
Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика.
Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.
Вероятно, он всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился.
Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с «гобоем любви», вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол.
Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева.
Поручик же спросил стесненным голосом:
— Кто таков?
Молодой человек, пьющий его пенник, отвечал, зевнув:
— Юнкерской школы при Сенате аудитор, — и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул.
Тогда наконец поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил.
Аудитор равнодушно возразил, что, напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев — «яко же умре», и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам чтоб надел мундир, негодный для носки.
Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать «не так».
Потом бывший Синюхаев надел мундир, не годный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки, с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять — к бесчестью, слыхал он. В перчатках поручик, каков он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь.
Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.
Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер[29] у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.
Больше он не возвратился в казармы.
11
Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче.
У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший «караул», найден.
Но это произвело странное действие на женской половине дворца.
Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом.
Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.
Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.
И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в обморок.