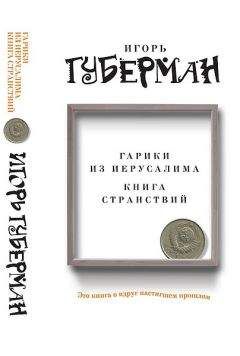Игорь Губерман - Листая календарь летящих будней…
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Игорь Губерман - Листая календарь летящих будней…. Жанр: Юмористические стихи издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
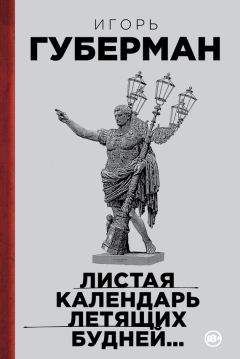
Игорь Губерман - Листая календарь летящих будней… краткое содержание
Листая календарь летящих будней… читать онлайн бесплатно
Послесловие
* * *Когда-то мысли вились густо,
но тихо кончилось кино,
и в голове не просто пусто,
но глухо, мутно и темно.
С Талмудом понаслышке я знаком
и выяснил из устного источника:
еврейке после ночи с мясником —
нельзя ложиться утром под молочника.
Хотя ещё смотрю на мир со сцены,
хотя почти свободен от невзгод,
но возраста невидимые стены
растут вокруг меня из года в год.
Об угол биться не любя,
углов я не боюсь,
я об углы внутри себя
гораздо чаще бьюсь.
Странная всегда варилась каша
всюду, где добру сперва везло:
близилась вот-вот победа наша,
но торжествовало – снова зло.
Придя из темноты, уйду во мрак,
евреями набит житейский поезд;
дурак еврейский – больше, чем дурак,
поскольку энергичен и напорист.
В каждом зале я публики ради
чуть меняю стихи и репризы,
потому что бывалые бляди
утоляют любые капризы.
Живу я праведно и кротко,
но с удовольствием гляжу,
как пышнотелая красотка
в кино снимает неглижу.
Почти каждый вечер томлюсь я и таю,
душой полыхаю и сердцем горю;
какую херню я при этом читаю,
какую хуйню я при этом смотрю!
Теперь я часто думаю о Боге,
о пламени загробного огня,
и вижу, подводя свои итоги,
как сильно подвели они меня.
Хотя врачи с их чудесами
вполне достойны уважения,
во мне болезни чахнут сами
от моего пренебрежения.
Уже который год подряд
живу я тускло, вяло, бледно,
и я охотно б принял яд,
но для здоровья это вредно.
Увы, челнок мой одинокий
уплыть не в силах далеко:
хотя старик уже глубокий,
а мыслю я неглубоко.
Я крепко в этой жизни уповал
на случай, на себя и на авось,
поэтому ни разу наповал
ещё меня свалить не удалось.
Угрюмой страсти не тая,
полна жестокого томления,
давно спилась душа моя
и к ночи жаждет утоления.
Думаю во дни утрат и бедствий,
как жесток житейский колизей,
лишь растёт за время путешествий
список одноразовых друзей.
Мучась недоверием к уму
или потому, что духом нищи, —
люди ищут Бога. Но Ему
ближе те, которые не ищут.
Видит Бог – не до дна высыхают
соки жизни в дедах и папашах,
и желания в нас полыхают,
охуев от возможностей наших.
Было в долгой жизни много дней,
разного приятства не лишённых,
думать нам, однако же, милей
о грехах, ещё не совершённых.
В Израиле, в родной живя среде,
смотрю на целый мир я свысока;
такой страны прекрасной нет нигде;
но нету и у нас её пока.
Никто ловчей, чем лилипуты
различных видов и размеров,
не изготавливает путы,
чтобы стреножить гулливеров.
Борьба со злом – извечная игра,
её шторма и штили хаотичны;
забавно, что апостолы добра
по большей части мало симпатичны.
Над этим сильно поработав,
я преуспел в конце концов:
стал дураком у идиотов
и мудаком – у мудрецов.
Всякий миф обо мне справедлив,
я такой, а не просто плохой:
рыбу в мутной воде половив,
из воды выхожу я сухой.
Стиха причудливая вязь,
питаясь внутренним горением,
таит загадочную связь
духовности с пищеварением.
Не слесарь, не философ, не правитель,
я мелкое своё клюю пшено,
однако я типичный представитель
чего-то, что названья лишено.
Нет печали, надрыва и фальши
в лёгких утренних мыслях о том,
как заметно мы хуже, чем раньше,
хоть и лучше, чем будем потом.
В людях, на книгах воспитанных,
дремлют опасные дрожжи:
множество мыслей прочитанных
сам сочиняю я позже.
Теперь душа моя пуста,
ей чужд азарт любого вида,
и суп из бычьего хвоста
мне интересней, чем коррида.
В потоке мыслей, слов, деяний —
мне всюду видится игра,
где зло в любом из одеяний —
тень или следствие добра.
Я стал отшельник и бирюк,
боюсь мельканья слов и лиц,
теперь познания урюк
я молча ем с немых страниц.
Я довольно выигрышный вытянул билет:
не был генералом, не был депутатом,
самой хилой премии не было и нет;
но хворая, хочется быть лауреатом.
Есть люди – их повадка так решительна,
как будто ими истина добыта,
их речь – неотразима и внушительна,
и в мягкое обёрнуты копыта.
Увы, но в учебники школьные,
чтоб жалоб не слали родители,
мои сочинения вольные
не станут включать составители.
Те – рискуют, играя ва-банк,
те – в конфузливом чахнут неврозе,
а еврей – он и наглый, как танк,
и застенчив, как хер на морозе.
Как ни прячься, как ни спорь и как ни лги,
как ни рыскай, словно заяц по полям,
а приходится сполна платить долги
по чужим и коллективным векселям.
На жизненном пути в любом из мест
бывало то забавно мне, то лестно,
что многие мне свой совали крест,
надеясь понести его совместно.
Мы так во всём различны потому,
что Бог нас лепит в разном настроении,
а если поднесли стакан Ему, —
видны следы похмелья на творении.
Я думаю о грязи, крови, тьме,
о Божьем к нашей боли невнимании;
я думаю о Боге – Он в уме?
И ум ли это в нашем понимании?
Всего одна в душе утрата,
но возместить её нельзя:
Россия, полночь, кухня чья-то
и чушь несущие друзья.
Не ликуйте, закатные люди,
если утром вы с мыслями встанете:
наши смутные мысли о блуде
не из тела плывут, а из памяти.
России только те верны,
кого навек постигло мнение,
что не могло судьбу страны
просрать её же население.
Русское грядущее прекрасно,
путь России тяжек, но высок;
мы в говне варились не напрасно,
жалко, что впитали этот сок.
Как пастух Господь неумолим,
но по ходу жизни очень часто
мне бывает стыдно перед Ним,
как Его наёбывает паства.
Я не пью, а дамам в ушки
лесть жужжу, как юный шмель,
я сегодня на просушке,
я лечу вчерашний хмель.
Не лучший представитель человечества,
я зря так над Россией насмехался:
мне близок и любезен дым отечества,
в котором я хрипел и задыхался.
И понял я, что это возрастное,
виной тут не эпоха, а года:
знакомые приходят на съестное,
а близких – унесло кого куда.
Туманный мир иллюзий наших —
весьма пленительный пейзаж,
когда напитки в тонких чашах
перетекают в нас из чаш.
Недаром Талмуд запрещает евреям
рулады певичек: от них мы дуреем;
у пылких евреев от женского пения —
сумятица в мыслях и с пенисом трения.
Душе быть вялой не годится:
холёна если и упитана,
то в час, когда освободится,
до Бога вряд ли долетит она.
То время, когда падал и тонул,
для многих было столь же непогоже,
я помню, кто мне руку протянул,
а кто не протянул, я помню тоже.
На всех я не похож – я много хуже,
со вкусом у меня большой провал:
я часто отраженью солнца в луже
не менее, чем солнцу, рад бывал.
Настало духа возмужание;
на плоть пора накинуть вожжи;
пошли мне, Боже, воздержание,
но, если можно, чуть попозже.
Да, Господь, умом я недалёк,
только глянь внимательно и строго:
если я кого-нибудь развлёк —
значит, он добрее стал немного.
Делам общественным и страстным
я чужероден и не гож,
я стал лицом настолько частным,
что сам порой к себе не вхож.
Рассудок мой, на книгах повреждённый,
как только ставишь выпивку ему —
несётся, как свихнувшийся Будённый,
в пространства, непостижные уму.
Один печалящий прогал,
одно пятно в душе осталось:
детишек мало настрогал
я за года, когда строгалось.
Русь воспитывала души не спеша,
то была сурова с ними, то нежна,
и в особенности русская душа —
у еврея прихотлива и сложна.
Былое пламя – не помеха
натурам пылким и фартовым,
былых любовей смутно эхо
и не мешает песням новым.
Во мне пылает интерес
и даже зависть есть отчасти,
когда читает мелкий бес
про демонические страсти.
В судьбе – и я, мне кажется, не вру —
ещё одна есть нить помимо главной:
выигрывая явную игру,
чего-то мы лишаемся в неявной.
Уже давным-давно замечено,
и в этом правда есть, конечно:
всегда наружно искалечено
то, что внутри не безупречно.
Безжалостна осенняя пора,
пространство наслаждений стало уже,
и если я напьюсь теперь с утра,
то вечером я пью гораздо хуже.
Чем дольше живу я, тем вижу я чаще
капризы душевной погоды:
мечты о свободе – сочнее и слаще
печалей и болей свободы.
Я стар уже, мне шутки не с руки,
зато идей и мыслей – вереницы;
учителю нужны ученики,
но лучше, если это ученицы.
Еврей, который не хлопочет
и не бурлит волной шальной, —
он или мысленно клокочет,
или хронический больной.
Мы много натворили, сотворили,
и нам уже от жизни мало нужно,
мы жаримся на счастье, как на гриле,
и хвалим запах жареного дружно.
Меня не оставляет чувство бегства:
закат мой не угрюм и даже светел,
но кажется, что я сбежал из детства
и годы, что промчались, не заметил.
За всё, что делал я по жизни,
прошу я малости у Бога:
чтоб на моей нетрезвой тризне
попировал и я немного.
Рад я, что за прожитые годы
в чаше, мной уже опустошённой,
было недозволенной свободы
больше, чем убогой разрешённой.
Когда тебе на плечи долг возложен
и надо неотложно поспешить,
особенно приятно лечь на ложе
и свет неторопливо потушить.
Я мыслями бываю озарён
и счастлив, отдаваясь их течению
похоже, я судьбой приговорён
к пожизненному умозаключению.
У юности душа – как общежитие:
я сам ютился где-то на краю,
но каждое любовное соитие
в душе селило пассию мою.
К усердному не склонен я труду,
я горечи земной ленивый мельник,
но столько трачу слов на ерунду,
что я – скорее мот, а не бездельник.
Я выбрал музу потребительства —
она гулящая старуха,
но я храню и вид на жительство
среди витающего духа.
Свои различные круги
в раю всем душам назначают,
а там заклятые враги
друг друга с нежностью встречают.
Витая мыслями на звёздах,
высоколобые умы
ничуть не реже портят воздух,
чем низко мыслящие мы.
Услыша стариковское брюзжание,
я думаю с печалью всякий раз:
оставив только хрип и дребезжание —
куда уходит музыка из нас?
Ни лжи не люблю я, ни фальши
и вспышки иллюзий гашу,
но уши мои, как и раньше,
охотно приемлют лапшу.
Сюда придёт под памятник толпа
сметливых почитателей проворных;
к нему не зарастёт народная тропа,
пока неподалёку нет уборных.
Забавно мне, что всякое деяние,
несущее то зло, то благодать,
имеет в этой жизни воздаяние,
которое нельзя предугадать.
Мой бедный разум не могуч,
а мысли – пепел и опилки,
и взора мысленного луч
ползёт не далее бутылки.
Пока мы напрочь не угасли,
пока с утра щетину бреем,
душе полезно верить басне,
что мы нисколько не стареем.
При хорошей душевной погоде
в мире всё справедливо вполне:
я – люблю отдыхать на природе,
а она – отдохнула на мне.
Сокрытое, но ярое кипение —
пожизненный, похоже, мой удел;
я даже одногорбое терпение
в себе не воспитал. Хотя хотел.
Оставя плоть в мешке замшелом,
душа летит за облака,
где Азвоздам с Барухашемом
играют с Буддой в дурака.
Хотя не атеист я с неких лет,
однако и не склонен уповать:
я верую не в то, что Бога нет,
но в то, что на меня Ему плевать.
Я в четыре коротких строки
научился укладывать внятно
всё, что мне по уму и с руки
было в жизни текущей понятно.
И поэтому не было нужно мне
добавлявшее чувственный вес
тонкорунное нежное кружево
набегающих лишних словес.
Со старыми приятелями сидя,
поймал себя вчера на ощущении,
что славно бы – остаться в том же виде
при следующем перевоплощении.
Я всё время шлю, Творец, Тебе приветы —
смело ставь на них забвения печать:
мне вопросы интересней, чем ответы,
и Ты вовсе не обязан отвечать.
Нам неизвестна эта дата,
но это место – вне сомнения:
земля и небо тут когда-то
соприкоснулись на мгновение.
Любить родню – докука
для всех, кому знакома
божественная скука
родительского дома.
Я в разных видах пил нектар
существования на свете;
когда я стал угрюм и стар,
меня питают соки эти.
Везде – пророки и предтечи,
но дух наш – цел и невредим,
под их трагические речи
мы пьём, гуляем и едим.
Я мысли чужие – ценю и люблю,
но звука держусь одного:
я собственный внутренний голос ловлю
и слушаюсь – только его.
Я старюсь и дряхлею, но – живу;
сменилась болтовня скупыми жестами,
и дивные бывают рандеву
с нечаянно попавшимися текстами.
Слегка бутыль над рюмкой наклоня,
я думал, наблюдая струйку влаги:
те, с кем не дообщался, ждут меня,
но пьют ли они водку там, бедняги?
Когда теряешь в ходе пьянства
ориентацию и речь,
к себе привлечь любовь пространства
гораздо легче, если лечь.
Не стоит огорчаться, уходя:
конечно, жить на свете – хорошо,
но может быть, немного погодя
я радоваться буду, что ушёл?
Мне заново загадочны всегда
российской тёмной власти пируэты:
российские глухие холода —
не связаны с погодами планеты.
Я, по счастью, выучен эстрадой
и среди читателей присутствием:
душу надо прятать за бравадой,
чтобы не замызгали сочувствием.
Не добрый, но, конечно, и не злой,
судьбы своей посильный совершитель,
хотя уже изрядно пожилой,
но всё-таки ещё не долгожитель.
Под вечер чувствуя отвагу,
забыв про выпивку и секс,
поэт насилует бумагу,
чтобы зачать нетленный текст.
Какими быть должны стихи и проза —
диктуется читательской корзинкой:
всем хочется высокого серьёза,
чуть пафоса и мёда со слезинкой.
Россия полностью в порядке,
и ждать не надо новостей,
пока вверху – не хрипы схватки,
а хруст поделенных костей.
Барды, трубадуры, менестрели —
все, в ком были дерзость и мотив, —
дивные выделывали трели,
чтобы соблазнить, не заплатив.
Об ущербе, об уроне, об утрате,
об истории, где зря он так охаян,
о единственно родном на свете брате —
горько плачется обычно каждый Каин.
Когда мы полыхаем, воспалясь,
и катимся, ликуя, по отвесной,
душевная пленительная связь
немедленно становится телесной.
Душа полна укромными углами,
в которых не редеет серный чад,
в них черти машут белыми крылами
и ангелы копытами стучат.
Лишь гость я на российском пировании,
но мучаюсь от горестной досады:
империя прогнила в основании,
а чинятся и красятся – фасады.
Дух упрямства, дух сопротивления —
с возрастом полезны для упорства:
старость – это время одоления
вязкого душевного покорства.
Стихи с поры недавней, вот ведь жалость, —
ушли куда-то, сгинули под лёд,
и странно мне, что музыка осталась,
но слов уже на танцы не зовёт.
Душевной доблести тут нет,
но не стыжусь я вслух признаться,
что я люблю не звон монет,
а тонкий шорох ассигнаций.
Бывает очень странно иногда,
как будто умирал и снова ожил:
какие-то в минувшем есть года,
которые не помню, как я прожил.
И гнетёт нас, помимо всего —
бытия после смерти неясность;
очень тяжко – не ждать ничего,
легче ждать, понимая напрасность.
Покой наш даже гений не нарушит
высокой и зазывной мельтешнёй,
поскольку наши старческие души
уже не воспаляются хуйнёй.
Пора мне, ветхому еврею,
жить, будто я уже отсутствую;
не в том беда, что я старею,
а в том, как остро это чувствую.
Пустого случайного слова
порою хватает сполна,
чтоб на душу мне из былого
плеснула шальная волна.
Зябну я в нашем рае земном,
слыша вздор пожилых пустомель;
мы – сосуды с отменным вином,
из которого выдохся хмель.
У зла с добром – родство и сходство:
хотели блага все злодеи,
добро всегда плодило скотство,
а зло – высокие идеи.
Бурлит в нас умственная каша —
намного глубже понимания,
и чем темнее память наша,
тем ярче в ней воспоминания.
Нынче грустный вид у Вани,
зря ходил он мыться в баньку,
потому что там по пьяни
оторвали Ваньке встаньку.
К моим добавлю упущениям,
что не люблю любой нажим,
и верю личным ощущениям
гораздо больше, чем чужим.
Давно живя, люблю поныне я
зигзаги, петли и штрихи,
и зря скребётся грех уныния,
пока покруче есть грехи.
Судьба нас искушает на повторах:
житейский наблюдая карнавал,
я вижу ситуации, в которых
не раз уже по дурости бывал.
Где б ни случился я под вечер,
я глазом сыскивал бокал,
который мне о скорой встрече
прозрачным боком намекал.
Дышу. Курю. Гоню волну.
Люблю душевное томление.
Господь не ставит мне в вину
благочестивое глумление.
Есть радости у дряхлых старичков,
и счастливы бывают старички:
сыскался вдруг футляр из-под очков,
а к вечеру на лбу нашлись очки.
Книга жизни – первый том,
он уже написан весь,
а про всё, что ждёт потом,
сочиню, Бог даст, не здесь.
Хотя на русской почве я возрос,
еврейской обволокся я духовностью:
вопросом отвечаю на вопрос
и пакостей от жизни жду с готовностью.
В азарте Божий мир постичь
до крайней точки и конца,
мы все несём такую дичь,
что плохо слышим смех Творца.
Хотя уже я сильно старый,
во мне талант ещё сочится:
с утра пишу я мемуары
про то, что днём со мной случится.
Чем потревожен дух народа?
О чём народ в толпе галдит?
О том, что подлая погода —
футболу нынче повредит.
К бутылке тянется не каждый,
кто распознал её влияние:
Бог только тех отметил жаждой,
кому целебно возлияние.
Природа позаботилась сама,
чтоб видно было, слушая ублюдка,
насколько выделения ума
подобны извержениям желудка.
Шумливы старики на пьяной тризне:
по Божьему капризу или прихоти,
но радость от гуляния по жизни
заметно обостряется на выходе.
Хочу, поскольку жить намерен,
сейчас уже предать огласке,
что даже крайне дряхлый мерин
ещё достоин женской ласки.
Я с юности грехами был погублен,
и Богу мерзок – долгие года,
а те, кто небесами стал возлюблен,
давно уже отправились туда.
Я не мудрец и не дебил,
и без душевного дефекта,
но не люблю и не любил
я выебоны интеллекта.
Увы, но зимний холод ранний —
судьбу меняет наотрез:
вчера пылал костёр желаний,
сегодня – тлеет интерес.
У Бога есть увеселения,
и люди гибнут без вины,
когда избыток населения
Он гасит заревом войны.
В мечтах мы въезжали на белом коне
в тот город, где нам отказали,
в реальности – грустно сопели во сне,
ночуя на шумном вокзале.
Стал часто думать я о Боге —
уже позвал, должно быть, Он,
и где-то клацает в дороге
Его костлявый почтальон.
Конечно, что-нибудь останется,
когда из года в год подряд
тебе талантливые пьяницы
вливали в душу книжный яд.
Хоть я теолог небольшой,
но нервом чувствую сердечным:
Господь наш тайно слаб душой
к рабам ленивым и беспечным.
Где льётся благодать, как из ведра,
там позже – неминуемые бедствия,
поскольку сотворителям добра —
плевать на отдалённые последствия.
Беда в России долго длится:
такие в душах там занозы,
что чем яснее ум провидца,
тем сумрачней его прогнозы.
Российскую публичную шарманку
я слышу, хоть и выставлен за дверь:
в ней то, что было раньше наизнанку,
то шиворот-навыворот теперь.
А впереди ещё страницы
растущей тьмы и запустения,
но мы не чувствуем границы
преображения в растения.
Не трудно, чистой правдой дорожа,
увидеть сквозь века и обстоятельства
историю народов и держав —
театром бесконечного предательства.
Давно уже иной весь мир вокруг,
и прошлое – за облаком забвения,
но с ужасом ещё ловлю я вдруг
холопские в себе поползновения.
Во имя чаяний благих
на том советском карнавале
ничуть не реже, чем других,
самих себя мы предавали.
В российском климате испорченном
на всех делах лежит в финале
тоска о чём-то незаконченном,
чего ещё не начинали.
В душе еврея вьётся мрак
покорности судьбе,
в которой всем он – лютый враг,
и в том числе – себе.
Творец дарил нам разные дары,
лепя свои подобия охальные,
и Моцарты финансовой игры —
не реже среди нас, чем музыкальные.
Насколько б далеко ни уносились
мечтания и мысли человека,
всегда они во всём соотносились
с дыханием и свихнутостью века.
Жил я, залежи слов потроша, —
но не ради учительской клизмы,
а чтоб чуть посветлела душа,
сочинял я свои эйфоризмы.
Творцу такое радостно едва ли
в течение столетий унижение:
всегда людей повсюду убивали,
сначала совершив богослужение.
Кому-то полностью довериться —
весьма опасно, и об этом
прекрасно знают красны девицы,
особенно весной и летом.
Бессонница висит в ночном затишье;
тоска, что ждать от жизни больше нечего;
как будто я своих четверостиший
под вечер начитался опрометчиво.
Такую чушь вокруг несут,
таким абсурдом жизнь согрета,
что я боюсь – и Страшный суд
у нас пойдёт как оперетта.
Не ведая порога и предела,
доверчив и наивно простодушен,
не зря я столько глупостей наделал —
фортуне дураков я был послушен.
Сначала чувствуем лишь это,
а понимаем позже мы,
что в тусклой жизни всё же света —
на чуть, но более, чем тьмы.
Опишет с завистью история,
легенды путая и были,
ту смесь тюрьмы и санатория,
в которой счастливы мы были.
Живу я, почти не скучая,
жую повседневную жвачку,
а даму с собачкой встречая,
охотней смотрю на собачку.
Пугайся – не пугайся, верь – не верь,
однако всем сомнениям в ответ
однажды растворяется та дверь,
где чудится в конце тоннеля свет.
Потери я терпел и поражения,
но злоба не точила мне кинжал,
и разве что соблазнам унижения
упрямо позвоночник возражал.
Когда гуляют мразь и шушера,
то значат эти торжества,
что нечто важное порушено
во всей системе естества.
Забавно видеть, как бесстыже
ум напрягается могучий,
чтобы затраты стали жиже,
но вышло качественно круче.
За время проживаемого дня
мой дух живой настолько устаёт,
что, кажется, житейского огня
во мне уже слегка недостаёт.
Пасутся девки на траве,
мечтая об узде;
что у мужчины в голове,
у женщины – везде.
То залихватски, то робея
я правил жизни карнавал,
за всё сполна платил судьбе я,
но чаевые – не давал.
Люблю своих коллег,
они любезны мне,
я старый человек,
я знаю толк в говне.
Интересно стареют мужчины,
когда их суета укачала:
наша лысина, брюхо, морщины —
на душе возникают сначала.
В шумной не нуждается огласке
признак очевидный и зловещий:
время наше близится к развязке,
ибо отовсюду злоба хлещет.
Когда пылал ожесточением
на гнева бешеном огне,
то чьим-то свыше попечением
текла остуда в душу мне.
А к вечеру во мне клубится снова
томящее влечение невольное:
помимо притяжения земного —
такое же бывает алкогольное.
Мои взорления ума,
мои душевные метания —
когда забрезжила зима,
свелись к вопросу пропитания.
В душе, от опыта увядшей,
внезапной живостью пылая,
как у девицы, рано падшей, —
наивность светится былая.
Был полон интереса – что с того?
Напрасны любопытство и внимание.
О жизни я не знаю ничего,
а с возрастом – растёт непонимание.
Я жил на краю той эпохи великой,
где как мы ни бились и как ни пытались,
но только с душой, изощрённо двуликой
мы выжить могли. И такими остались.
Мне дико странный сон порою снится:
во тьме лежу, мне плохо, но привычно,
а гроб это, тюрьма или больница —
мне начисто и напрочь безразлично.
Я с горечью смотрю на эту реку:
по ней уже проплыть надежды нет,
и книги я дарю в библиотеку,
чтоб жить не в тесноте остаток лет.
Любил бедняга наслаждение,
женился с пылкой одержимостью,
и погрузился во владение
своей холодной недвижимостью.
Мне лень во имя справедливости
тащить себя сквозь вонь и грязь,
моё лентяйство – род брезгливости,
и скучно мне, с говном борясь.
Мне кажется, что я умру не весь,
окончив затянувшийся мой путь:
душе так интересно было здесь,
что вселится она в кого-нибудь.
Хотя и прост мой вкус конкретный,
но не вульгарно-бездуховен:
ценю тем выше плод запретный,
чем гуще сок его греховен.
Среди мировых безобразий
один из печальнейших фактов —
распад человеческих связей
до пользы взаимных контактов.
И формой стих мой вовсе не новинка,
и с неба дух не веет из него,
но дерзостно распахнута ширинка
у горестного смеха моего.
В цепи причин и соответствий —
полно случайностей лихих,
у жизни множество последствий,
и наша смерть – одно из них.
Рождаясь в душевном порыве высоком,
растя вопреки прекословью,
идеи сперва наливаются соком,
потом умываются кровью.
Летят тополиные хлопья,
ложатся на землю, как пух…
Забавно, что время холопье —
весьма совершенствует дух.
Свои позиции, приятель,
когда сдаёшь за пядью пядь,
то всем становишься приятен,
как многоопытная блядь.
Еврейский дух предпринимательства
так безгранично плодовит,
что сторожей законодательства
повсюду трахнуть норовит.
Бывает весьма сокровенно
скрещение творческих судеб,
и тоньше других несравненно —
Сальери о Моцарте судит.
Любой злодей и басурманин
теперь утешен и спокоен:
в России был он Ванька Каин,
у нас он будет – Венька Коэн.
И понял я: пока мы живы,
что в наше время удивительно,
являть душевные порывы —
необходимо и целительно.
Вон у добра опять промашки,
а вот – нелепые зевки…
Где зло с добром играют в шашки,
добро играет в поддавки.
Когда я срок мой подневольный
тянул по снегу в чистом поле,
то был ли счастлив мой конвойный,
который жил на вольной воле?
Конечно, мы теперь уже не те,
что раньше, если глянуть со вниманием:
мы раньше прозябали в темноте,
а ныне – прозябаем с пониманием.
Возьму сегодня грех на душу,
сгоню унылость со двора,
все обещания нарушу
и выпью с раннего утра.
Когда не в силах я смеяться —
устал, обижен, озадачен, —
то у меня лицо паяца,
который в Гамлеты назначен.
Ушли мечты, погасли грёзы,
увяла пламенная нива,
и по полям житейской прозы
душа слоняется лениво.
За то, что дан годов избыток
(а срок был меньший уготован), —
благодари, старик, напиток,
которым весь ты проспиртован.
Увидя стиль и буржуазность,
я вмиг собрал остаток сил:
явив лихую куртуазность,
хозяйку в койку пригласил.
День у пожилых течёт не мрачно;
в жилах ни азарта нет, ни ярости;
если что сложилось неудачно —
сразу забывается по старости.
Души моей заветная примета,
утеха от любого в жизни случая —
беспечность, неразменная монета,
основа моего благополучия.
Печаль еврея пожилого
проистекает из того,
что мудро взвешенного слова
никто не жаждет от него.
Когда уже совсем невмоготу
общественную грязь месить и лужи,
срамную всюду видеть наготу —
остынь. Поскольку дальше будет хуже.
Я днём стараюсь лечь и отключиться,
хоть надобности тела в этом нет;
похоже, что и в роли очевидца
устал я пребывать на склоне лет.
А счастье – что жива слепая вера
в Посланца с ангелятами крылатыми,
и новая везде наступит эра,
и волки побратаются с ягнятами.
Таков сегодня дух науки,
и так она цветёт удало,
что внуков будущие внуки
всплеснут руками запоздало.
Бывают сумерки – они
мерцаньем зыблются тревожным,
но зажигаются огни,
и счастье кажется возможным.
Что-то в этой жизни несуразной
весело, удачливо и дружно
вьётся столько гнуси безобразной,
что зачем-то Богу это нужно.
Осталась только видимость и мнимость
того, что было стержнем и основой,
и жгучая висит необходимость
херни вполне такой же, только новой.
Зачем толку слова в бумажной ступе?
Я б лучше в небесах умом парил.
А может быть, на скальном я уступе
стоял и молча с морем говорил.
Текучесть у природы – круговая,
в истории – такая же текучесть;
Россия прозревает, узнавая
свою кругами вьющуюся участь.
Увы, порядок этот вечен,
и распознать его не сложно:
везде, где Бог бесчеловечен,
там человек жесток безбожно.
Все шрамы на природе – письмена
о том, как мы не правы там и тут,
и горестными будут времена,
когда эти послания прочтут.
Унимается пламя горения,
и напрасны пустые рыдания,
что плывёт не заря постарения,
а густеет закат увядания.
Стоит жара, и лень амурам
в сердца стрелять, и спят они;
я Фаренгейта с Реомюром
люблю ругать в такие дни.
Зачем в устройство существа
повсюдного двуногого
Бог сунул столько бесовства,
крутого и убогого?
Душа моя во мне дышала
и много высказать хотела,
но ей безжалостно мешала
прыть необузданного тела.
Порой весьма обидно среди ночи,
что я не знаменосец, не герой;
ни язва честолюбия не точит,
ни жгучих устремлений геморрой.
Снова церковь – и в моде, и в силе,
но творится забавная драма:
утвердились при власти в России —
те, кого изгонял Он из Храма.
Когда пожухшее убранство
сдувает полностью с ветвей
и веет духом окаянства —
томится мыслями еврей.
Забавно, что в соседней бакалее
легко найти творение ума,
от порции которого светлее
любая окружающая тьма.
Скоро мы, как дым от сигареты,
тихо утечём в иные дали,
в воздухе останутся ответы,
что вопросов наших ожидали.
В горячке спора про художества
текущей жизненной картины
меня жалеют за убожество
высоколобые кретины.
Плывёт, качаясь, наше судно,
руководимое не нами,
по волнам дикого абсурда,
который клонится к цунами.
Душе моей пора домой,
в ней высох жизни клей,
и даже дух высокий мой —
остоебенел ей.
Постскриптум через много лет
Похожие книги на "Листая календарь летящих будней…", Игорь Губерман
Игорь Губерман читать все книги автора по порядку
Игорь Губерман - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.