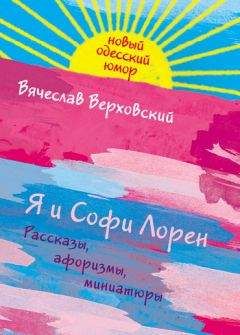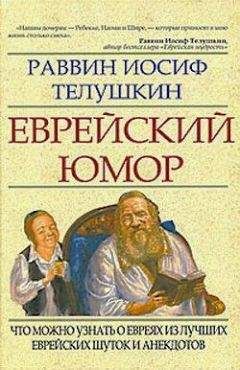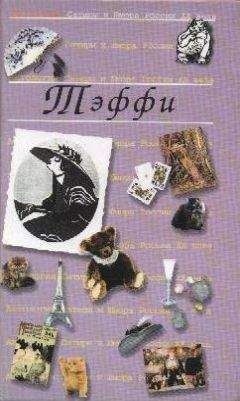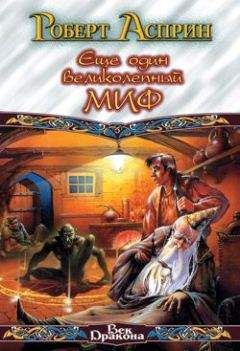В конце концов отчаявшиеся подданные выбрали делегатов, чтобы те пошли к царю, объяснили ему ситуацию и попросили обуздать своих любимцев. Народные избранники отправились во дворец, исполненные неясных надежд. Но при виде его величества с лютней в руках, извлекающего из нее попеременно три нестройных аккорда и фальцетом подвывающего что-то проникновенное о том, как «мы идем по дороге, босы наши ноги, светлы наши души, чисты наши уши», делегация сочла за благо побыстрее покинуть помещение.
И тогда народ решил искать выход самостоятельно. Коллективный разум – большая сила. Кто-то умный предложил: вот если бы, допустим, менестрели начали в своих песнях хулить и высмеивать царя и вообще государственное устройство, не исключено, что царь изменил бы свое к ним отношение и поприжал их хоть немного. Осталось придумать, как это осуществить. Очень просто, сказал другой умный: нужно организовать песенный турнир, где победителей будет ждать всенародная слава и хорошие призы. Победит же тот, кто сочинит самую лучшую песню на тему «Я люблю свою родину, но…» А царя нужно пригласить в качестве почетного председателя жюри, заявил третий умник. Народ заметно оживился.
Как пожелали, так и сделали. Его величество, услышав о турнире, пришел в восторг. Еще больше порадовала его тема, дающая возможность продемонстрировать всему народу широту и демократичность царских взглядов на свободу слова. Он сказал, что все расходы берет на себя и крохоборничать не намерен.
Государь не обманул. Турнир оформили на славу. Огромная поляна на берегу реки была освещена факелами. Цветы, ленты, фейерверки, шампанское. Почетный караул в три шеренги под командой бравого генерала. Десятки тысяч зрителей. Сцена в виде лютни. За сценой – шелковый шатер, где ждали своей очереди выступить приодевшиеся и протрезвевшие менестрели. В жюри – четверо самых маститых менестрелей, чьи песни так давно стали народными, что никто уже не помнил, какая из них чья. И почетный председатель жюри – его величество, в обнимку с лютней, с которой он, кажется, даже в постели не расставался. На столе жюри красовались призы, главный из которых представлял собой модель царского дворца в масштабе 1:200, сделанную из стекла и наполненную коньяком пятидесятилетней выдержки.
Прозвучали фанфары – и началось. Один за другим выходили менестрели на «большую лютню» и, сверкая очами, пели специально сочиненные для этого случая песни. И всем посвященным в интригу стало понятно, что тема для турнира была придумана гениально. При всем хорошем отношении авторов песен к стране, государству, монархии и лично к царю, сатирическая направленность темы вкупе с желанием победить заставили их обрушиться с язвительной критикой на все сколько-нибудь заметные недостатки – или же на достоинства, которые при смене ракурса легко превращались в недостатки. Особый упор делался на демократические принципы существующего правления, которыми царь по праву гордился. Ну а многочисленные песни-антиутопии рисовали чудовищные картины угнетения и бесправия, массовые казни, пытки и истязания, головы вольнодумцев на кольях вокруг дворца, костры из книг и еретиков, их написавших, вымершие от голода деревни и, конечно, менестрелей – последний оплот свободы и нравственности – в застенках, в колодках, без воды, с вырванными ноздрями и ослепленных, в последнем порыве вдохновения сжавших в руках верную лютню с оборванными палачом струнами, чтобы перед казнью еще раз проклясть гнусного тирана и его прислужников и крикнуть им в лицо страшную правду…
Зрители, с ужасом глядевшие на разошедшихся не в меру певцов, постепенно проникались ощущением правдоподобности того, о чем пелось на сцене, хоть оно и вступало в противоречие с их собственной картиной реальности. Самые догадливые начали уже понимать, что успех затеи может заметно превзойти ожидания. Члены жюри, на первых песнях важно кивавшие в самых удачных местах, уже давно оставили это занятие и только переводили тревожный взгляд со сцены на царя и обратно.
Первые три-четыре песни царь счастливо улыбался. Постепенно его улыбка сделалась вопросительной, на лице последовательно выразились удивление, недоумение, изумление, разочарование, отвращение, испуг, гнев, ярость и, наконец, решимость. Он подозвал командира почетного караула и что-то ему негромко сказал. Генерал вытаращил глаза и хотел переспросить, но царь злобно замахнулся на него лютней. Генерал отскочил и, обратив к караулу потрясенное лицо, подал команду, которую не подавал еще ни разу в жизни.
Караул четко выполнил команду. Весело лязгнули выхватываемые из ножен сабли. Первая шеренга отделилась от двух остальных, изогнула фланги, охватила полукругом сцену вместе с шатром и через несколько секунд окружила их. Вторая и третья шеренги раздвинулись, перестроились и так же быстро и точно замкнули кольцо оцепления вокруг остолбеневших зрителей. Раздались крики, сверкнули сабли, крики оборвались. Солдаты вывели из шатра менестрелей, ошарашенных столь стремительной материализацией их метафор и гипербол, добавили к ним того беднягу, что находился в этот момент на сцене, и членов жюри, выловленных уже из толпы зрителей. Царь вышел вперед – и все замерли.
С сегодняшнего дня, провозгласил царь, размахивая лютней в такт словам, вводятся новые законы, долженствующие способствовать укреплению государства, оздоровлению общества и процветанию страны. Отныне оскорбление его величества государя и членов царской семьи карается смертной казнью, к оскорблению же причисляется все то, что не является восхвалением. Клевета на государственное устройство наказывается бессрочными каторжными работами с конфискацией имущества. За исполнение песен, не утвержденных специальным департаментом, каковой департамент завтра будет назначен, – пять лет тюрьмы с отрезанием языка. За слушание таковых – то же самое, но с отрезанием ушей. За разговоры на недозволенные темы, список которых завтра будет опубликован, – три года тюрьмы и штраф. Остальные законы будут объявлены завтра. Р-разойдись!
Оцепление сняли, и зрители, совершенно подавленные, молча разошлись. У менестрелей отобрали лютни и разбили об их головы, а их самих заковали в кандалы и увезли.
Ночью на одной из улиц столицы были слышны вопли. Там били умников – первого, второго и третьего.
Жил-был чиновник. Звали его господин Таймович, и служил он старшим хроником в отделе учета и согласования Департамента расписаний Министерства времени. Был у него свой кабинет на втором этаже в конце коридора, где он сидел ежедневно с понедельника по пятницу с восьми до пяти, перерыв на обед с двенадцати до двенадцати сорока, а также в субботу, но уже до часу и без обеденного перерыва.
К работе своей господин Таймович относился на редкость добросовестно, за что был весьма ценим начальством. Он никогда не опаздывал на службу и никогда не уходил домой раньше времени. Просыпался он безо всякого будильника точно без двадцати пяти семь, четырнадцать минут принимал душ, чистил зубы, умывался и брился, девять минут готовил завтрак, восемнадцать минут завтракал и пил кофе, четыре минуты одевался, в семь двадцать выходил из квартиры и через восемь минут садился в трамвай, который подходил к остановке ровно в семь двадцать восемь. Поездка занимала двадцать две минуты. Выйдя из трамвая, он пять минут шел от остановки до входа в департамент, за три с половиной минуты преодолевал четыре лестничных пролета и длинный коридор и ровно в семь пятьдесят восемь с половиной входил в свой кабинет. Полторы минуты уходило на то, чтобы снять шляпу и плащ и повесить их на вешалку, сесть за стол и принять рабочее положение. Ровно в восемь господин Таймович пододвигал к себе приготовленную накануне стопку документов и забывал об окружающем мире.
Все эти манипуляции господин Таймович совершал не глядя на часы. У него в квартире вообще не было часов: он в них не нуждался. Его внутренний биологический хронометр работал безупречно, и наручные часы он носил исключительно потому, что человек без часов на руке вызывает еще меньше доверия, чем собака без ошейника, и ни на какую карьеру рассчитывать не может.
Как-то раз, в день, когда было особенно много работы, слегка уже уставший господин Таймович на секунду поднял утомленные глаза от двух входящих и трех исходящих, лежащих перед ним на столе. Взор его случайно сфокусировался на настенных часах, висевших напротив (с точки зрения владельца кабинета, они были совершенно излишней деталью интерьера). Часы показывали 13:56. Почему-то это показалось господину Таймовичу забавным, что он и отметил, улыбнувшись, прежде чем снова уткнуться в расписание гастролей заезжего грузчика-вундеркинда, которое ему предстояло согласовать с графиком санитарных проверок городской живодерни.
Через некоторое время он, задумавшись, в какую папку положить готовый документ, опять скользнул рассеянным взглядом по часам. Теперь они показывали 14:17, и это развеселило господина Таймовича настолько, что он даже хихикнул. Но тут же забыл о часах, так как его ждала коллективная жалоба посетителей университетского пивного ларька на позднее время утреннего завоза пива по понедельникам.