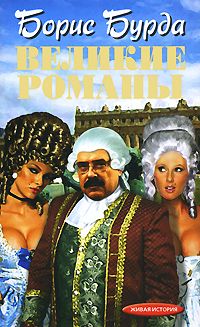Труднее было творцам при дворе восточных деспотов. С одной стороны, всегда есть беспроигрышная тема – величие и мудрость вышеупомянутого деспота, превосходящие всякое вероятие. С другой – нравы были настолько просты, что роль литературного критика вполне могли доверить по совместительству и придворному палачу, а у него аргументы сами знаете какие. Приходилось проявлять творческие способности еще и в таком импровизационном жанре, как ответы на критические замечания властителя, не влекущие за собой немедленной казни. Вот великий поэт Хафиз как-то необдуманно написал, что за родинку некой прекрасной турчанки готов отдать и Самарканд, и Бухару. Кто бы мог подумать, что Тимур возьмет его родной Шираз, прикажет привести к нему Хафиза и скажет: «О несчастный! Я потратил полжизни на украшение Самарканда и Бухары, а ты готов отдать их за бровь какой-то потаскухи?!» Державный гнев утих только после ответа Хафиза: «Из-за такой щедрости я и пребываю в такой бедности». Тимур пришел в восторг и отпустил поэта с богатым подарком, дабы дать ему возможность проявить первое качество, не впадая во второе.
Впрочем, у арабских литработников были свои сложности, а у европейских – свои. У арабов не 5 основных стихотворных размеров, а 27, потому что у верблюда в отличие от лошади много разных аллюров и, чтобы приспособиться к тряске, нужно читать стихи ей в такт. А у нас в Европе зато была инквизиция – тоже неплохой творческий стимул. Кардинал Ришелье, который был осведомлен о проблеме с двух сторон (как церковник и как писатель), просто утверждал, что кого угодно можно признать еретиком за любые три слова. «Даже за слова «верую в Бога»? – поинтересовался некий скептик. «За это, пожалуй, просто сразу сожгут, – успокоил его кардинал. – Вы только что заявили, что не веруете в Святую Троицу, месье».
Легче жить стало после того, как Генри Филдинг посвятил свое очередное творение не какому-то лорду, а новому кормильцу – читающей публике. Ну и правильно, хватит унижаться. А то напишешь оду императору, а он, вместо того чтобы раскошелиться, отвечает тебе своей одой. Заплатить бы ему, мерзавцу, чтоб знал, как насмешничать, да денег нет – очень на свою оду в этом плане рассчитывал, а тут такое непотребство… Да и газеты появились – не пропадешь, прокормишься. Дюма вот с газетных гонораров целый замок построил. Немудрено – он в 1860 году роман Лажечникова «Ледяной дом» написал, а через год – повесть Бестужева-Марлинского «Мулла Нур». Издал под своей фамилией, как положено, – жалко, что ли, диким московитам? Сами понимаете, нажитое таким путем долго в кармане не залежалось – незадолго перед смертью больной Дюма выложил перед сыном два луидора из своего кошелька и посетовал: «Почему все меня обвиняют в мотовстве? Когда в двадцать лет я приехал в Париж, у меня в кошельке было два луидора. Так вот же они!»
Впрочем, что с французов возьмешь! Когда один психиатр обещал показать гостю города Парижа интересного душевнобольного, тот застал у психиатра в гостях двоих – тихого человечка, не говорящего ни слова, и истеричного крикуна, орущего, не переставая, о своем величии и гениальности. «Как вам псих?» – поинтересовался потом врач. «Интересно, но очень уж шумный, – робко ответил гость. – Я все боялся, вдруг набросится». «Что вы, это Бальзак в гости забежал!» – признался психиатр. Ничего удивительного – когда в разговоре с Бальзаком речь заходила о нем, он вставал и снимал шляпу. Из уважения. Впрочем, французский классик его заслуживал – по самым разным причинам. Знаете, как он выяснял, сколько в незнакомой ему Австро-Венгрии надо платить извозчику? Клал тому на ладонь монетку за монеткой, пока физиономия извозчика не расплывалась в улыбке, после чего забирал одну монетку и уходил. Можете за границей применить эту методу: сработало у Бальзака – пройдет и у вас.
Да и окружение у Бальзака тоже было всякое. О Викторе Гюго Жан Кокто так и говорил, что Виктор Гюго – это псих с тяжелым случаем мании величия, вообразивший себя Виктором Гюго. Страна такая. Какой-то французский писака в конце прошлого века поведал миру, как его герой целовал даме сердца ручку, белую и пухлую, как у Венеры Милосской. Так вот она какая была…
То ли дело англичане! Английский юмор всегда был спокоен и прост. Артур Конан Дойл послал десяти своим приятелям, весьма уважаемым людям, одну и ту же короткую телеграмму: «Все раскрыто, немедленно беги» – и на следующий же день все они покинули Англию. Что бы сделали лично вы, получив такую телеграмму? Не торопитесь, подумайте. Крестный отец великого сыщика, письма к которому не устает каждый день разгребать сберкасса АО «Abbey National Building Society» (сами виноваты – кто снимает для офиса помещение на Бейкер-стрит, 221б, должен знать, чем это чревато), глубоко понимал людей. Он мог войти в салон и с уверенностью сказать: «Здесь недавно пробежала мышь!» На вопрос: «Как вы догадались?» – он с улыбкой отвечал: «А как вы еще объясните следы женских туфелек на креслах, сэр?»
Да что нам Европа – у нас свои проблемы. Жизнь смешнее, чем у российских, советских и постсоветских писателей, найти можно, но искать долго – работа такая. Про цензуру не говорю – даже ее отсутствие мешало работать. Лескову, пытавшемуся в типографии просмотреть гранки своих «Мелочей», гордо ответили: «Не дадим – у нас бесцензурный статус!» Удалось ли Лескову доказать, что он не цензор, – история умалчивает (были же цензорами Тютчев и Гончаров!). Но и цену наши писатели себе знали. Грин в зените славы положил на стол издателя рукопись, назвал цену и добавил: «Это не читая, захотите прочесть – возьму дороже». Редактор взял и, как всегда, не ошибся. С современниками не рекомендовал бы я так рисковать…
Есть, правда, писатели проверенные, рукописи которых всегда дорого стоят. Некоторые рукописи Пушкина после революции попали на Запад, и владелец категорически отказывался их продать Советскому Союзу. Тогда Горький сразу же предложил, исходя из своего богатейшего жизненного опыта, простой и эффективный способ возвращения рукописей. «Да украсть их надо, и всех-то дел!» – поставил он задачу борцам за коллективную собственность на все. Этой идее Алексей Максимыч был настолько привержен, что Герберт Уэллс, выслушав его филиппики на эту тему, робко поинтересовался: «А зубные щетки тоже будут общие?» А о нем самом известный шутник Карл Радек говорил, что, поскольку именем Горького называли парки, самолеты, улицы и колхозы, в его честь следует назвать всю жизнь советских людей Максимально Горькой.
О таком произведении Горького, как Союз писателей, разговор особый. Как еще говорить об организации, один из боссов которой работал официантом на банкетах в Кремле (сами понимаете, от какой конторы)? Соавтор сценариев комедий Гайдая Морис Слободской охарактеризовал его весьма лаконично: «Он не только из половых, но еще и из органов». И кадры для такого союза готовились еще с Литинститута. Профессор Лебедев рассказывает, что в день похорон Пастернака студенты решили прогулять занятия и поехать в Переделкино. Угрозы и запреты не помогали. И тогда институтский парторг воспользовался неким историческим лозунгом с точностью до наоборот. Догадайтесь, что он воскликнул? Правильно, «Коммунисты, назад!»
Так что не зря Корней Чуковский, которого все 30-е годы стирали с лица земли за то, что он дезориентировал советских детей, восхваляя вреднейших мух и комаров и клевеща на полезных пауков (Маршак вспоминал, что единственным наркомом, который не обругал Чуковского, был занятый своими делами министр почт и телеграфа), сформулировал замечательное правило: «Писатель в нашей стране должен жить долго!» Слава богу, он следовал ему сам и дожил до Ленинской премии. Да и то не без приключений. Вручая Корнею Ивановичу премию, Хрущев вместо «Поздравляю!» сказал: «Вот кого я ненавижу!» И продолжил свою мысль: «Прихожу с работы усталый, а внуки сразу мне его книжку суют – деда, читай!»
Зато кого из писателей любили, так уж любили. Зощенко, например, получал в СССР в начале двадцатых годов сотни счетов из гостиниц, из комиссионных магазинов, даже повестку в суд по уголовному делу, к которому не имел ни малейшего отношения. Десятки самозванцев бродили по стране, выдавая себя за него, женщины, которых он в глаза не видел, требовали у него алименты. Как вы знаете, в итоге ЦК это надоело…
Впрочем, слава сама по себе может быть полезна даже писателям. Когда в московскую квартиру Чингиза Айтматова забрались воры, их постигла неудача. Ни одной из ценных вещей, находящихся в квартире – ни ковра на стене, ни фарфорового сервиза, ни вазы, – нельзя было украсть. Не имело смысла. Все с дарственными надписями. Правда, некоторым хотелось еще большей славы. Расул Гамзатов как-то пожаловался Иосифу Кобзону, что не может получить квартиру в Москве. Кобзон, чтоб ему помочь, пошел с просьбой к мэру Москвы Промыслову, но тот сказал, что Гамзатову предлагали уже три роскошные квартиры в престижных районах – на улицах Горького, Алексея Толстого и Чайковского, – но тот отказался. Кобзон выразил Гамзатову удивление, однако причина оказалась достаточно убедительной: тот считал (думаю, не без оснований), что эти улицы не станут переименовывать в его честь.