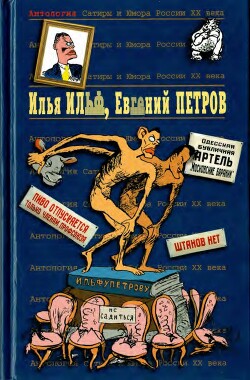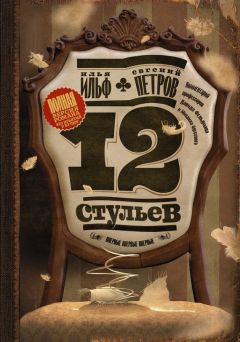бритву «Жиллет», а из бумажника — запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.
— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.
Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
— Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!
— За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер.
Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции.
Но конец, который бывает всему, пришел.
— Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.
Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.
— Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — И по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы — к старухам!
— Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, — мне очень тяжело будет войти в собственный дом.
— Ах да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад-алле!
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не и красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.
Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.
«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх.
В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:
Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег…
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..
Предводитель хора, в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:
— Дисканты, тише! Кокушкина, слабее!
Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:
Та-та-та, та-та-та, та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум…
— Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.
— А в чем дело, товарищ?
Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:
— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор Пожарной охраны.
Завхоз застыдился.
— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.
— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап, — я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.
Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.
— Пожалуйте за мной, — пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.
— В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?
— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный.
Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.
На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета:
«ДУХОВОЙ ОРКЕСТР —
ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ»
— Очень хорошо, — сказал Остап, — комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.
Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженого мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.
Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.
Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь