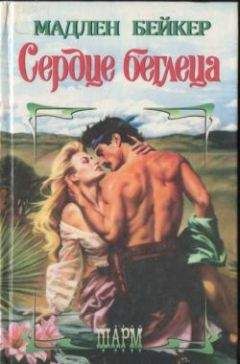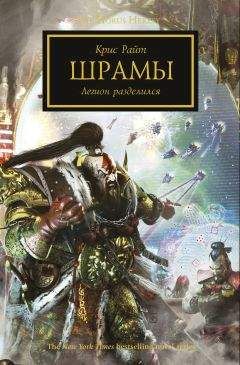Мэдлин Бейкер
Сердце беглеца
Его звали Логан Тайри, и он стал беглецом. И, как всякий, кому посчастливилось бежать из дьявольской дыры, именуемой юмской тюрьмой, он был полон решимости не возвращаться туда. Лучше умереть от жажды под палящими лучами аризонского солнца или погибнуть, истекая кровью, от тяжкой раны в боку, где засела пуля от револьвера 45-го калибра, чем вернуться к жизни за решеткой.
Территориальная тюрьма Юмы! Сто десять градусов в тени.[1] Жалкая камера пять на восемь футов без окон – только холодные серые стены и такая же серая стальная дверь. Юма! Восемнадцать месяцев он пил мутную тепловатую воду и питался гнильем, пригодным разве что для свиней. Кишащие паразитами одеяла и тяжелые цепи. Цепи, от которых он стал хромать… А какая у него раньше была размашистая беззаботная походка! А теперь его тело и душа покрыты шрамами.
Да, размышлял он уныло, от цепей он избавился, но шрамы остались. Его тело сохранило и другую печальную память: чуть выпуклые полосы крест-накрест пересекали его широкую спину и плечи. Это были следы плетей.
Черт возьми! Одна мысль о плети заставляла его обливаться холодным потом. Был там один надзиратель, в руках которого плеть оживала и переставала быть просто девятифутовым мягким сыромятным ремнем, а превращалась в свистящий и извивающийся язык пламени, без устали выплясывавший над содрогающейся плотью.
Его били плетьми только раз. Другие, мятежно-гордые или до глупости упрямые, умирали под ударами плетей, моля о пощаде. Но Тайри был не дурак. В тюрьме Юмы не ведали такого понятия, как милосердие. И он подавил свою гордость и обуздал язык. Со стороны он мог показаться образцовым заключенным, без конца повторяющим «Да, сэр» и «Нет, сэр» и покорно, без вопросов и жалоб, подчиняющимся командам. Но внутри у него все кипело. В нем бурлила жажда свободы, он желал увидеть бесплодную аризонскую пустыню во всей красе, мечтал вновь взбираться на неприступные горы Монтаны, скакать верхом по обширным поросшим травой землям Дакоты. Любовь к дикой стране не ослабевала, и он тосковал по безграничной свободе равнин, как его сокамерники томились по глотку виски, по женщине или колоде карт.
Тюремное затворничество нелегко дается человеку, привыкшему ничем себя не связывать, ни перед кем не отчитываться, никому не подчиняться и не жить по часам. Он проводил время, как ему нравилось, делал, что хотел, и если его заставляли вставать в то время, как его еще тянуло в сон, есть, когда он не был голоден, или подчинять свою волю воле других, внутри у него загорался пожар. Да, ему нелегко было таиться и поджимать хвост, как побитая собака, но это окупалось.
Считая его сломленным и, стало быть, неопасным, надзиратели посылали Тайри с поручениями из одного тюремного здания в другое. Он так хорошо научился играть роль запуганного узника, что стражи в его присутствии стали вести себя беззаботно. И эта беззаботность двоим из них стоила жизни, а ему подарила вожделенную свободу.
Отбросив воспоминания, Логан вновь начал нахлестывать лошадь, тщетно стараясь заставить бежать быстрее усталое и истощенное животное. Белый человек был бы потрясен тем, с какой жестокостью он обращался со своей гнедой кобылой, но Тайри взрастили апачи.[2] А апачи погоняли своих лошадей, пока те не падали бездыханными, а потом, если позволяло время, съедали тушу.
Он тихонько выругался, когда кобыла споткнулась, и взмолился про себя, чтобы у несчастной клячи хватило сил донести его до дальних гор или на худой конец до приличного убежища, где он мог бы переждать, пока посланные в погоню не потеряют надежду его найти.
Но как раз, когда он об этом подумал, гнедая споткнулась в последний раз. Тайри сильно встряхнуло, и он едва успел спрыгнуть с седла, прежде чем лошадь завалилась на бок. Из раздувающихся ноздрей кобылы брызнула кровь, а в ее влажных карих глазах застыло выражение смертельной муки.
Прищурившись, чтобы защитить глаза от слепящего солнца, Тайри поглядел на дорогу, оставленную позади. Пока что она была пуста, но он знал, что Толстозадый и его люди неуклонно идут по его следам, как волки, преследующие буйвола. И Тайри двинулся пешком, зажав рукой рану. По телу прокатилась новая волна боли, и лицо его снова покрылось испариной.
Он шел и шел и наконец оказался на небольшом островке земли, ограниченном с одной стороны красными стенами каньона, с другой – небольшими ручейками. Остановившись ненадолго, он огляделся. На юге, в той стороне, где находилась Мексика, змеей извивалась синяя лента реки – там была свобода. На мгновение у него возникло искушение направиться туда. Но именно этого от него ожидали полицейские и потому он направился, как и прежде, на север, к песчаным холмам, с трудом вытаскивая ноги из вязкого песка. Каждый шаг требовал отчаянного усилия, от каждого вдоха рана ныла сильнее, и все же он двигался вперед с улыбкой, больше напоминающей гримасу, глядя, как песок затягивает его следы.
Он взобрался на вершину последней дюны, а затем, как с горки, съехал с нее и оказался в скудной тени низкорослого кактуса сагуаро. Он хмуро посмотрел на ладонь, окрашенную липким и красным, и тихонько проклял ранившего его надзирателя. Скривившись от боли, он снял пропитанную кровью повязку. Рана, теперь уже двухдневная, начала гноиться. От входного отверстия наподобие веера расползлись красные лучи, напоминающие спицы колеса.
Сменив промокшую повязку, Тайри мимоходом подумал о том, как хорошо было бы выпить стакан холодного пива, которое бы прочистило горло от пыли. А еще больше подошел бы для этой цели высокий стакан кентуккийского бурбона, заодно притупивший бы обжигающую боль в боку. Но он мгновенно забыл об этих несбыточных желаниях при виде облака пыли, поднимающегося на дороге.
Со своего наблюдательного пункта он сумел разглядеть конный полицейский отряд из двенадцати человек. Они остановились возле его павшей гнедой кобылы. Он видел, что они возбужденно переговариваются и спрыгивают с коней, чтобы получше рассмотреть землю. Броуди, территориальный шериф, был легко узнаваем даже на расстоянии. Тяжелый и тучный, он походил на жирного медведя-гризли, вставшего на дыбы.
Среди этой компании нет настоящего следопыта, подумал Тайри, и произнес про себя краткую благодарственную молитву за то, что в числе отряда не оказалось ни собак, ни индейцев-проводников.
Они глупы, подумал Тайри презрительно. Какие дураки! Топчутся на месте, как обезглавленные куры, и сами затаптывают следы, которые ищут.
За несколько секунд немногие отпечатки ног Тайри исчезли, стертые сапогами дюжины полицейских. Он вздохнул с облегчением, видя, как преследователи снова садятся на лошадей и направляются на юг, к границе. Рано или поздно, как понимал Тайри, Броуди поймет свою ошибку и повернет назад. Но сейчас не стоило об этом тревожиться. С ухмылкой Логан поднялся на ноги и начал спускаться с дюны.
На полпути он споткнулся и полетел вниз с пологого песчаного склона. Он пролежал добрых пять минут, размышляя о том, не стоит ли ему попросту свернуться калачиком и ожидать прихода смерти. Но он был не из тех, кто легко сдается. Он поднялся на ноги и снова двинулся на север – высокий, темноволосый, одетый в штаны из грубой джинсовой ткани и клетчатую рубашку, которые где-то по пути стянул с веревки, где сушилось белье. Одежда, правда, оказалась не его размера. Его длинные ноги торчали из коротких штанин, а рубашка была слишком тесной и узкой для его широких плеч. Логан не был красив в обычном понимании этого слова, но обладал неким обаянием мужественности, которое многие женщины находили неотразимо привлекательным: чернильно-черные длинные волосы слегка вились на затылке, большой рот, четко очерченная нижняя челюсть, что говорило об упрямстве, прямой нос, глаза удивительного желтого оттенка… Сейчас, когда он постоянно щурился на солнце, они казались похожими на щелочки, лицо его заросло густыми усами и бородой.
Боль в боку пронизывала его через равные промежутки времени с такой же неукоснительной точностью, как следуют друг за другом удары военного барабана апачей, но он продолжал идти. Лицо его превратилось в непроницаемую маску и ничуть не выдавало страданий, которые он испытывал всякий раз, когда его окатывала волна боли. Прерия походила на духовку: солнце было разожженным пламенем, а он сам подобен куску медленно поджаривающегося мяса. И эта мука будет продолжаться, пока тело его не обуглится, пока пустыня не вытянет из него все жизненные соки, оставив только сухой остов.
Переставлять словно налитые свинцом ноги также стоило отчаянных усилий. Оступившись, Логан снова упал, рана снова начала кровоточить, и он почувствовал, как теплая липкая жидкость заструилась по левому боку. Тело запульсировало, пронизываемое острой болью. Он напомнил себе, что это ничтожная цена за обретенную им свободу. И если ему суждено умереть от этой раны, значит, так тому и быть. Лучше погибнуть свободным, на вольных просторах, чем жить за высокими серыми стенами и холодными железными решетками юмской тюрьмы, где каждый новый день точь-в-точь похож на минувший, а каждая ночь кажется длиннее предыдущей.