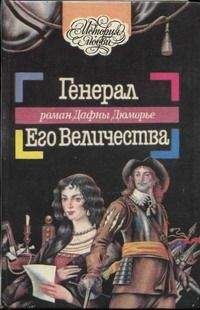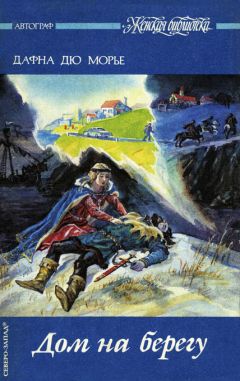Генеалогическое древо Дафны Дюморье
Мери Энн Томпсон (1776-1852)
Элен Кларк (1797-1870)
Джозеф Кларк (? – 1836)
Луи Матурэн Буссон Дюморье (1797-1856)
Джордж Дюморье (1834-1896)
Джеральд Дюморье (1873-1934)
Дафна Дюморье (род. 1907)
Много лет спустя, уже после того, как она ушла из их жизни, они вспоминали ее улыбку. Черты лица, подернутые дымкой забвения, были едва различимы. Глаза, несомненно, были голубыми – но с тем же успехом можно было утверждать, что они были зелеными или серыми. А волосы, собранные в узел или ниспадающие локонами, были, по всей видимости, каштановыми. Вот нос уж точно был греческим – ни у кого этот факт не вызывал сомнения. Форма ее рта никого не интересовала – ни тогда, ни теперь.
Все ее естество проявлялось в том, как она улыбалась. Улыбка зарождалась в левом уголке рта и моментально превращалась в насмешку, которой она встречала всех без исключения: и тех, кого любила, в том числе и свою семью, и тех, кого презирала. И пока они в неловком молчании ожидали, что сейчас на них обрушится поток саркастических замечаний, ее глаза зажигались озорным огнем, преображая лицо и излучая радость. Они вздыхали с облегчением, понимая, что их разыграли, и начинали от всей души смеяться над се шуткой.
Это воспоминание они пронесли через всю свою жизнь. Все остальное было забыто. Забыты ложь, обман, внезапные вспышки ярости. Забыты ее непомерная расточительность, доходящая до абсурда щедрость, язвительный язык. Остались только ее сердечность и любовь к жизни.
Разбросанные во времени, одинокие тени прошлого, неразличимые друг для друга, они перебирали в памяти эти мгновения. И хотя жизненные пути некоторых из них пересеклись, дружбы между ними не возникло; но все равно они были связаны одной нитью.
Самое странное заключалось в том, что трое из тех, кого она больше всего любила, скончались друг за другом в один год, вскоре за ними последовал и четвертый; и перед смертью каждый из них вспоминал ее улыбку. Они слышали смех, чистый и звонкий, как будто в голове звучала музыкальная шкатулка, и память, подобно прорвавшей плотину воде, затопляла сознание.
Ее брат, Чарльз Томпсон, покинул этот мир первым. Ему никогда ни в чем не хватало терпения. Это и стало причиной его смерти, так же как и многих других событий его жизни, начиная еще с того времени, когда он, маленький мальчик, тянул к ней ручонки и просил: «Возьми меня, не оставляй меня!» Постепенно все заботы о нем взяла на себя она, и с тех пор, даже тогда, когда он превратился во взрослого мужчину, они полностью зависели друг от друга, – это и принесло им обоим несчастье.
Его жизненный путь закончился шумной ссорой в пивной, когда он, как обычно, начал хвастаться, что был бравым воякой и что его считали самым многообещающим командиром роты и собирались повысить в звании. Его история была стара как мир: неважное здоровье самого Чарльза, несправедливое отношение к нему полковника, враждебность и зависть младших офицеров, вопиющая несправедливость военных судей. Но кульминацией всему был рассказ о том, как главнокомандующий, страстно желавший отомстить сестре Чарльза, принялся вымещать свою злобу на брате.
Чарльз огляделся по сторонам, ожидая увидеть сочувственные взгляды. Однако его рассказ никого не взволновал, многие вообще не слушали: дело было давнее – к чему теперь ворошить прошлое? Отвернувшись, посетители наполнили кружки, что привело Чарльза Томпсона в бешенство. Он швырнул свою на пол и, вскочив, закричал:
– Слушайте, вы, черт бы вас всех побрал! Я такое могу вам порассказать про королевское семейство – вы даже ушам своим не поверите! Знай вы всю правду, вы швырнули бы всех Ганноверов в Ла-Манш!
И в это мгновение один из тех, кто еще помнил события шестнадцатилетней давности, тихо, как бы про себя, пробормотал стишок, который был очень популярен в те времена: его распевали на лондонских улицах. В стишке довольно грубо высмеивалась сестра Чарльза. Остряк не собирался обижать Чарльза, он просто хотел повеселиться. Но Чарльз думал иначе. Он подошел к нему и ударил в лицо. Стол перевернулся, потом Чарльз еще кого-то задел, и началась свалка, сопровождаемая криками и ругательствами. Придя в себя, Чарльз обнаружил, что он стоит на улице, щека рассечена, а в ушах все еще звучит хохот его собутыльников.
Ярко светила луна, силуэт собора св. Павла четко выделялся на фоне темного неба. Чарльз брел, не разбирая дороги, по узким, похожим на лабиринт улочкам, пока наконец какое-то полузабытое чувство не привело его к дому, где они выросли и существование которого он хотел бы скрыть от своих собутыльников. Он взял пример со своей сестры: одним он говорил, что провел детство в Оксфордшире, другим – что в Шотландии. Но сейчас он стоял перед домом, где действительно прошло его детство: домом, зажатым между другими такими же обшарпанными домами, стоящим в начале переулка Баулинг Инн Элли, такого узкого, что лунный свет не достигал его дна и не освещал окон. Именно здесь они с сестрой мечтали о будущем, строили планы. А может, это она строила планы, а он только слушал? Здесь и сейчас жили. Он услышал детский плач. Затем прозвучал женский голос, в котором слышались злоба и раздражение. Дверь дома распахнулась, кто-то вышел и выплеснул ведро помоев на вымощенную каменными плитами улицу, крича при этом что-то через плечо.
Чарльз Томпсон развернулся и побрел дальше. Тени прошлого неотступно преследовали его, пока он не добрался до реки. Было время прилива, и вода быстро поднималась. Он понял, что у него нет денег, нет будущего, что его сестра далеко и некому больше вытереть сочащуюся из рассеченной щеки кровь.
Прошло довольно много времени, пока дети, возившиеся в грязи на берегу, нашли его труп.
Тело Чарльза Томпсона опознал Вильям Даулер, в течение двадцати пяти лет хранивший верность его сестре. Он был уже очень болен, когда письмо от ее поверенных, сообщавшее о находке в реке, вынудило его проделать путь из Брайтона в Лондон. Кое-какие приметы совпадали с описанием ее пропавшего брата, и Даулеру, являвшемуся ее попечителем, пришлось заняться этим делом. Его совершенно не интересовал Томпсон, и, когда его взору предстало то, что осталось от Чарльза, он подумал, что ее жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, утони ее брат сразу же после увольнения со службы, семнадцать лет назад. И для Даулера вес было бы по-другому. Она пришла бы к нему за сочувствием, и он бы увез ее и заставил забыть все. А получилось так, что ее обуяли гнев и жажда мести. И вот лежит человек, ставший причиной столь многих несчастий. Ее «бесценный брат», как она обычно называла его, ее «дорогой мальчик».