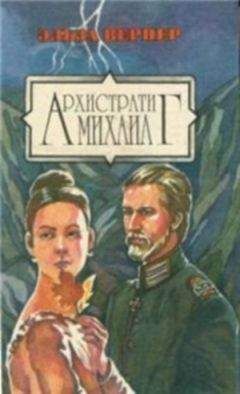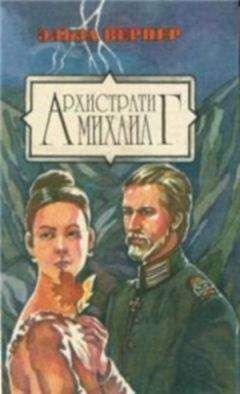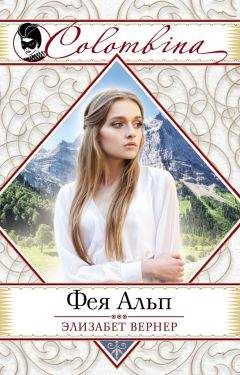Высоко над снежными венцами гор стояла яркая радуга. Гроза пронеслась. Вдали еще глухо раздавались раскаты грома, подхватываемые эхом в ущельях, и густые массы облаков окутывали склоны, но небо уже прояснилось, вершины гор выглянули из моря тумана, а за ними стали медленно выплывать зеленые луга и темные леса.
Глубоко в горах лежала величественная долина, прорезанная пенистым потоком, уединенная, точно совсем оторванная от мира с его суетой, и, тем не менее, этот мир нашел в нее путь. На тихой горной дороге, где прежде лишь изредка показывался какой-нибудь экипаж или одинокий пешеход, теперь бурлила лихорадочная деятельность. Всюду суетились люди, инженеры исследовали местность, что-то чертили, измеряли: скоро в этот тихий уголок должна была протянуть свою стальную руку железная дорога, и подготовительные работы шли полным ходом.
На склоне горы, у края ущелья, стояла усадьба, на первый взгляд немногим отличающаяся от других усадеб, встречающихся в горах; но, подойдя ближе, нетрудно было увидеть, что эта постройка — не крестьянское жилище. Каменные стены были монолитными, окна и двери — довольно широки; два полукруглых выступа по углам своими медными, горящими на солнце крышами напоминали башенки и придавали зданию внушительный вид, а над входом красовался высеченный в камне герб.
Это была одна из тех старинных барских усадеб, которые до сих пор встречаются кое-где в горах, серая, потемневшая от непогод, но упорно противящаяся разрушению. Задний ее план образовывал чрезвычайно живописный лес, а над ним гордо вздымалась мощная скала с отвесными стенами и вершиной в снежной короне.
Внутренность дома соответствовала его наружному виду. Большая низкая комната со сводчатым потолком занимала почти весь передний фасад. Потемневшая деревянная облицовка стен, исполинская изразцовая печь, стулья с высокими спинками, резной дубовый буфет — все грубое, простое и древнее. Из окон открывался великолепный вид на горы, но двое людей, сидевших за столом и занятых разговором, не обращали внимания на ландшафт.
Один был человек лет пятидесяти, исполинского роста, с широкой грудью и мощными руками. В его густых белокурых волосах и бороде не виднелось еще ни одной серебряной нити, а загорелое лицо дышало энергией и здоровьем. Его собеседник был приблизительно одного с ним возраста, но слабое сложение, резкие черты умного лица и совершенно седые волосы очень старили его. Лицо с высоким лбом, изрезанным глубокими морщинами, говорило о неустанной деятельности и борьбе, но ясно видный в нем оттенок высокомерия производил неприятное впечатление, а манеры и речь обличали человека, привыкшего повелевать.
— Будь же, наконец, благоразумен, Тургау, — говорил он тоном, в котором слышалось нетерпение. — Сопротивление ни к чему не поведет, тебе все равно придется уступить.
— Придется? — вспылил Тургау. — Это мы еще посмотрим! Пока я жив, в моей усадьбе ни один камень не будет сдвинут с места!
— Но ведь она стоит у нас на дороге: как раз здесь должно пройти железнодорожное полотно.
— Так перенесите свое проклятое полотно! Куда угодно, хоть на самую вершину Волькенштейна, а дом мой оставьте в покое. И не трудись, Нордгейм. Я не соглашусь.
Нордгейм усмехнулся сострадательно и иронически.
— Ты в своей глуши, кажется, совсем разучился понимать мир и его требования. Неужели ты воображаешь, что дело, подобное нашему, можно остановить, потому что какому-то барону Тургау не угодно уступить нам несколько квадратных метров своей земли? Если ты будешь упорствовать, нам останется только применить принудительное право: ведь ты знаешь, что предоставлена полная власть в этом отношении.
— Ого! И у меня ведь есть еще кое-какие права! Я протестовал, и буду протестовать до последнего вздоха. Моя усадьба Волькенштейн будет стоять на месте, хоть бы все железнодорожное общество, со своим почтенным председателем Нордгеймом во главе, перевернулось вверх ногами.
— А если тебе предложат двойную цену?
— Хоть десятерную! Я не торгую наследием своих предков. Мой дом останется на месте — и баста!
— Это все то же упрямство, которое уже недешево обошлось тебе в жизни! Я мог бы предвидеть это, но не скажу, чтобы мне было приятно, что мой собственный шурин принуждает общество, во главе которого я стою, к насильственному образу действий.
— А потому ты потрудился явиться собственной персоной? — насмешливо заметил Тургау. — Это первый раз за многие годы.
— Я хотел попытаться образумить тебя, если мои письма не оказали действия. Впрочем, ведь ты знаешь, как мне дорого время.
— Как не знать! Я с благодарностью отказался бы от этой неустанной погони за добычей, которую ты называешь жизнью. Какой толк тебе от твоих миллионов, оттого, что тебе так баснословно везет? Ты то здесь, то там, вечно второпях, обременен делами, и так с утра до позднего вечера; а ночью, когда каждый разумный человек ложится отдыхать, ты еще целыми часами сидишь за письменным столом. Отсюда и твои седые волосы, и морщины на лбу. Посмотри на меня! — Тургау выпятил грудь и расправил могучие плечи. — А ведь я на целый год старше тебя.
Нордгейм взглянул на шурина, на лбу которого действительно не было ни морщинки, и его губы насмешливо дрогнули:
— Все это совершенно верно, но не каждый в состоянии жить в глуши среди сурков и только и делать, что стрелять коз. Сколько уж лет, как ты вышел в отставку, хотя твое древнее имя могло помочь тебе сделать карьеру.
— Да ведь я не гожусь для барщины. «Ни один Тургау для службы не годился, потому-то вы и опустились так», хочешь ты сказать? Я это вижу по твоей насмешливой улыбке. Мало осталось от нашего прежнего богатства, но, по крайней мере, у меня есть крыша над головой, а земля, на которой я стою, — моя. Тут мне никто не смеет приказывать и противоречить, во всяком случае, не смеет твоя проклятая железная дорога. Ну, Нордгейм, не сердись, не будем ссориться из-за этой истории! Нам незачем упрекать друг друга, потому что если я — упрямец, то ты — деспот; ты заставляешь свое хваленое общество плясать под свою дудку, а если кто вздумает противоречить тебе, того просто хватают за шиворот и вышвыривают вон.
— Ты почем знаешь? Ведь ты никогда не интересовался нашими делами.
— Нет, но я разговаривал недавно с несколькими инженерами, которые производят измерения неподалеку. Они на чем свет стоит, ругают тебя, твою тиранию и введенную тобой систему покровительства любимчикам. Мне пришлось выслушать весьма поучительные рассуждения.