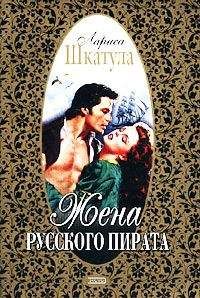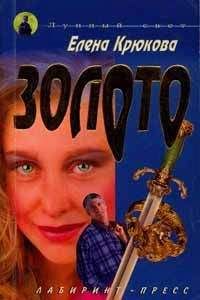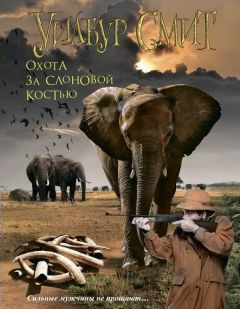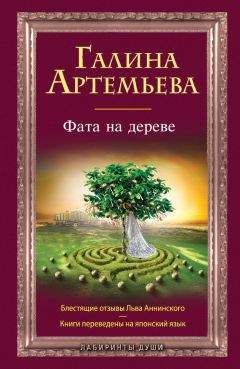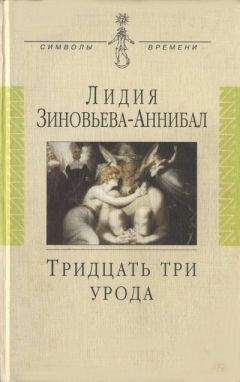— Как вы можете сравнивать! — возмутился Константин. — Революция открыла простому народу двери в светлое будущее, и совершили её большевики!
— Видишь ли, паренек, — задумчиво проговорил Черный Паша, — я думаю, не может быть светлого будущего без справедливости и закона. Почему вы, большевики, решили, что вам можно то, что другим нельзя?.. Вот смотри: я убью какого-то своего обидчика. Власть меня будет судить и, может, тоже убьет. Вы убьете сто человек, которые с вами не согласны, и не будете за это отвечать. Объясните народу, что они мешали вам двигаться вперед, и все… Мы прошли половину Кубанской области, сейчас идем по Ростовской везде люди убивают друг друга. Убийство стало привычным делом. Я — старый стреляный волк, но я никого не мог бы убить просто так. Борьба за идею это хорошо, но жизнь-то у человека одна, и когда её у него забирают, объясняя, что так надо, зато другим будет хорошо, — я с этим не согласен!
Катерина окинула взглядом своих товарищей. Синбат жевал картошку, думая о чем-то своем. Алька лежал на спине, смотрел в звездное небо и вряд ли слышал, о чем так горячо спорят двое взрослых. Аполлон спал, привалившись к колесу телеги. И только Батя во все глаза смотрел на своего друга: как складно закручивает! Сам он частенько страдал косноязычием и не мог понять, откуда Черный Паша, окончивший всего три класса церковно-приходской школы, набрался стольких слов и так ладно связывает их между собой!
Воспользовавшись моментом, когда их гость примолк, сраженный доводами Черного Паши, Катерина предложила:
— Дмитро, давай заспиваем! Дуже мени нравится твий голос, — и обратилась уже к гостю. — Вы такого не чуялы!
Аполлону снился сон из действительного происшествия, случившегося с ним недавно. Он был вообще человеком дела, и от лишних слов, а тем более споров, его клонило в сон. Вот он спал и видел…
Плыл он на своей плоскодонке по лиману. Протока среди камышей была мелкой, и он отталкивался шестом. Черный Паша заказал для ребят свежей рыбки. В другое время этим занимался в основном Батя, но он был в отъезде, и Аполлона послали проверить переметы. Уже на обратном пути услышал он женский крик.
Он никогда не мог спокойно слышать, как кричат женщины. Наверное, из-за матери. В последние годы жизни она стала попивать, да и вид уже имела не тот, что прежде, так что мужики у неё были — одна шваль. То пьяницы горькие, то бродяги беспризорные, а такие люди, как известно, норовят хоть кого-то под себя подмять, чтоб чувствовать: есть на свете кто и похуже тебя — скотина безответная.
Аполлон в лодчонке-то и поспешил на крик. Картина ему открылась неприглядная. Двое парней в красноармейских шапках — эти ни с какими другими не спутаешь! — тащили в камыши девку. И была она такая красотка глаз не оторвать! Потом-то Аполлон понял, что кричала она не столько от страха, сколько от злости. Тогда же кровь ему в голову кинулась. Деваха упирается, волосы белокурые по плечам рассыпались, — сами насильники в теплых шинелях, а она в легком платьице, да ещё на груди разорванном…
Солдаты эти Аполлона шибко разозлили, но он исподтишка никогда не нападал. Причалил к берегу, на твердую землю ступил и сказал без всякой злобы, для завязки разговора:
— Бог в помощь, мужики!
Те поначалу вздрогнули, — что за черт, откуда взялся? — потом рассмотрели: какой-то мужичонка невидный. Сила кое-какая чувствуется, а только все одному против двоих не сдюжить. И оружия с собой никакого. Откуда же им было знать, что Аполлон без ножей и спать не ложится, что мечет он их в любую цель с обеих рук и на всем Азове в этом искусстве ему равных нет!
— Отпустите! — предложил им спокойно Аполлон.
Тем временем девка на руках у того, что её держал, совсем обмякла должно быть, придушили её, чтоб не кричала.
Второй красноармеец был помоложе; его старший товарищ пойманную птичку в укромное местечко волок, а он следом их ружья нес — обстоятельный мужик! Этот второй и стал Аполлону объяснять:
— Ты за кого вступаться хочешь? Неужто бы мы хорошую-то девку сильничать стали? А такую дрянь! Она ж — немецкая подстилка!.. Все равно её в расход пускать — чего напоследок не попользоваться?!
Может, любой другой и поверил бы, отступился — только не Аполлон. Он с детства жил среди таких женщин, какой якобы была та, которую сейчас тащили в камыши. Если она такая — чего же ей сопротивляться? Станет она разве кричать да побои переносить? Если они ей и вовсе противны — смирится и будет терпеть, пока насильники тешиться станут, — ей не привыкать! Потому Аполлон сказал ещё раз, но уже построже:
— Отпустите!
Старшой на его строгость хмыкнул, девку опять потащил, а напарнику через плечо бросил:
— Кешка, пристрели его, он мне надоел!
Названный Кешкой снял с плеча ружье, но не успел и передернуть затвор, как случилось невероятное: в воздухе что-то легко просвистело, и его старший друг споткнулся, грузно рухнув на свою жертву.
Кешка побледнел — из шеи товарища торчала рукоятка ножа, но бежать не стал и пощады не запросил. Аккуратно прицелился, но Аполлон уже в азарт вошел. На землю кинулся и снизу, в падении, второй нож метнул. Пуля над ним, лежащим, таки свистнула, но сам стрелок уже завалился навзничь с предсмертным хрипом.
Во сне, правда, все было не так: насильники никак не хотели помирать, а с ножами в горле стреляли в него, стреляли… Аполлон не знал, что в выстрелы его сна превращались звуки споров у костра; а когда Черный Паша с Катериной запели и над землей поплыла тихая чарующая песнь — петь громко не решились, чтоб не накликать какое лихо, а не петь уже не могли, — Аполлону стала сниться спасенная им девица.
Спасенная целовала его, заглядывая прямо в душу небесными очами, и говорила:
— Юлией меня зовут, запомни! Злой рок вырвал меня из родительского дома — я была богата и знатна, но я ещё поднимусь, и я не забуду своего спасителя. Сначала я думала, что, назвав тебя именем Аполлона, кто-то хотел над тобой посмеяться, но теперь я знаю: ты — Аполлон, и тебе есть чем гордиться…
Аполлон не понимал и половины из того, что твердила ему эта красивая, горячая девка. Он просто смотрел на неё во все глаза, боясь прикоснуться, точно она могла от его прикосновения разбиться или ещё как-то испортиться. Она сама, в лодке, притянула его к себе и сказала:
— Люби меня!
Он и любил. Со всей силой своей одинокой искореженной души, где теперь до самой смерти будет ножом вырезано её имя:
— Юлия!
— Агния… — начал Флинт и, заметив, как на лбу Ольги появилась недоуменная морщинка, упрямо продолжил: — Агния сейчас бы в революцию кинулась. Начнет, бывало, рассказывать, какая жизнь будет на земле, когда не станет богатеев, — заслушаешься! Мне странно было это слышать, ведь её семья — не из бедных. Но Агния говорила, что когда богатые с лица земли исчезнут, то их, женщин, перестанут покупать за деньги.