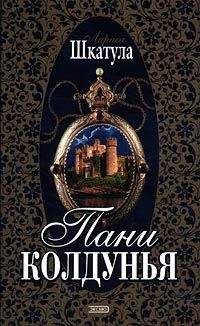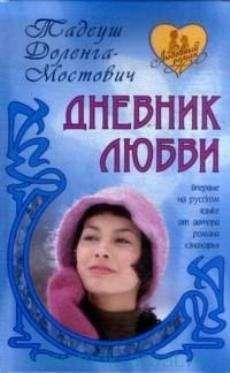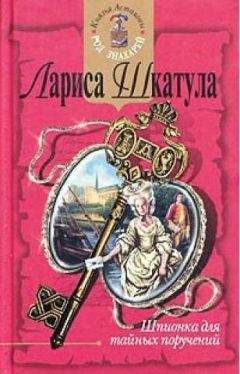В один момент будто лопнул обруч, который жестко сковывал ее голову; девушке показалось, что именно он не давал болезни выйти наружу.
Наверное, это блаженство отразилось на ее лице, потому что отец отдернул руку, но Лиза прошептала:
— Пожалуйста, папенька, подержи еще свою руку.
Мне стало так легко, словно я заново родилась.
Потом она заснула и уже не видела, как ушел отец, а на его месте Лиза, проснувшись поутру почти здоровой, увидела свою любимую нянюшку Варвару Алексеевну, которую нарочно привезли из Отрады.
Лиза ей и обрадовалась и подосадовала: она чувствовала себя достаточно бодрой и здоровой, чтобы встать с кровати, но знала, что нянюшка этого никогда не допустит.
— Ишь, чуть жар спал, сразу из кровати прыг! — сердилась та. — Вергилий Иваныч наказал: встать не ранее чем через неделю.
Лизе ничего не оставалось, как покориться.
Князь заходил проведывать дочь каждый день и как бы между прочим интересовался:
— Лизочек! Ты ничего особенного в себе не чувствуешь?
В первый раз Лиза весело ответила:
— Чувствую, папенька!
И с удивлением заметила, как он вздрогнул.
— Я чувствую, — продолжала она, — что уже выздоровела и отлежала себе все бока, а нянька Варвара продержит меня в постели еще не один день! Ты бы замолвил словечко…
Князь отчего-то рассердился и пробурчал, что лежать она будет столько, сколько скажет доктор. Раз он говорит, что нельзя вставать, значит, так тому и быть!
А потом началось то, чему Лиза вначале удивилась, чему не сразу поверила и даже подумала, будто у нее что-то случилось со зрением.
— Ну, как тут наша больная?
С таким привычным для себя и пациентов вопросом доктор Вергилий Иваныч вошел на следующее утро в спальню Лизы Астаховой. Девушка машинально взглянула на торчащий из кармана врача стетоскоп и совершенно отчетливо увидела, как прямо за ним, будто не в грудной клетке, а в прозрачном сосуде, бьется сердце.
Лиза сморгнула и даже прикрыла глаза, а когда перевела взгляд левее, то есть, по отношению к доктору, на правую половину его тела, совершенно отчетливо увидела его печень. Тогда она точно и не знала, что это именно печень, просто догадалась. Такое видение девушку ничуть не обрадовало, тем более что ему не находилось никакого объяснения.
Впрочем, она припомнила слова отца насчет того, что может чувствовать что-то особенное, и заподозрила поначалу: уж не заколдовал ли он ее? Но тут же над собой посмеялась — слишком батюшка любил ее, чтобы нанести своему дитяти какой-нибудь вред…
Значит, пока Лиза сама не разберется, что к чему, она никому о своих странных способностях говорить не станет. И раз уж так получается, что она видит человека насквозь в самом прямом смысле слова, то нужно как следует изучить, что же она видит? Иными словами, нельзя ли помочь больным людям — вовремя подсказать, что надо лечить тот или иной орган, который они пока не считают больным…
В своем изучении анатомии Лиза преуспела. Она уже основательно разбиралась во внутреннем строении человека, знала, как выглядит здоровый орган и как — пораженный болезнью. Правда, пока не знала-, как полученными знаниями распорядиться.
Зачем ей это ясновидение? С кем поделиться?
У кого попросить совета? Лиза напоминала самой себе Петуха из басни Крылова: «Петух нашел жемчужное зерно и говорит: „Куда оно?“
Елизавета уже два года как выезжала в свет и, надо сказать, поклонников имела вполне достаточно, чтобы не сидеть у стены с равнодушным видом, обмахиваясь веером и беседуя ни о чем с какой-нибудь такой же девицей, обойденной вниманием.
Не иначе, по неразумению девическому или из озорства, именно на балу у генерал-майора Бутурлина весьма предерзко Лиза отвечала на упреки некоего графа Роговцева, обозвавшего ее Снежной королевой.
В последнее время граф частенько бывал с визитами в доме Астаховых, и всегда с одним и тем же: делал Лизоньке предложение руки и сердца. Он считался одним из самых завидных женихов Петербурга по причине огромного богатства и потому никак не мог понять холодности княжны, в то время как в других домах его всегда принимали с распростертыми объятиями и просто-таки заглядывали в рот: не произнесет ли Владимир Львович слов, которых так ждут от него матери невест на выданье…
— Ну почему вы ко мне холодны, Елизавета Николаевна, почему? — вопрошал граф.
Он так допек Лизу своими приставаниями, что она выпалила:
— Потому, Владимир Львович, что не хочу в скором времени вдовой остаться. Может, другая какая девица порадовалась бы вашему несчастью, согласилась, но я не могу… Ваша печень… она же совсем разрушена!
Граф отшатнулся от княжны, как от прокаженной. И даже те, кто не слышал их разговора, заметили смертельную бледность, покрывшую лицо Роговцева.
Больше в особняке Астаховых он не появлялся, а Лизе рассказывали ее знакомые, что граф посещает самых дорогих врачей и выспрашивает их про свою печень — так ли его дела плохи?
Но дорогие врачи потому и дороги, что они не говорят своим пациентам всей правды, а то и вообще правды не говорят, зато очень хорошо умеют успокаивать.
Печень Роговцева щупали и мяли, что-то бормотали по-латыни, а перевели ему так:
— Увеличена печенка, не без того. Надо ехать на воды. Лучше в Карлсбад.
Ободренный ими граф в момент собрался и отбыл на воды, где вскорости и скончался.
Надо сказать, весть о его смерти петербургский бомонд не поразила. Все вдруг стали вспоминать, что в последнее время граф и вправду плохо выглядел: был весь какой-то желтый, под глазами мешки.
Княжна Астахова оказалась не то чтобы проницательнее других, а просто не по-девичьи резвой на язык, в силу своей молодости и недостаточного воспитания.
Как тут не вспомнить Грибоедова, который говорил, что злые языки страшнее пистолета. Но опять действие развивалось вовсе не по той пьесе, которую пытался ставить поручик Щербина: вместо того чтобы заинтересоваться дьявольскими способностями княжны, свет стал привычно объяснять несдержанность княжны недостатком воспитания. Мол, что еще можно ожидать от дочери Александры Кохановской!
Так бы происшествие и забылось, вполне объясненное светскими умниками, если бы через некоторое время не последовало второе.
На этот раз конфуз случился на балу у обер-прокурора Синода[6]. Потому и событие получило широкую огласку.
Некий гусарский полковник, схоронивший уже двух жен и, несмотря на это, опять подбиравший себе девицу из самых молодых, заявил при всех, что не потерпит отказа, ежели княжна не мотивирует причины своей холодности к столь блестящей партии, каковой он себя, безо всякого сомнения, считал.