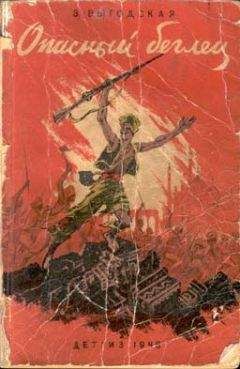Напуганные слуги не смогли дать ему никакой информации, и он проклял свое незнание этого варварского языка и бездарность калькуттского носильщика как переводчика. Он направился к броду, надеясь, что записка Винтер была написана только для отвода глаз, а сама она на самом деле отправилась назад в Дели. Но брод уже успел превратиться в грозный бурлящий поток, и Карлион вернулся в почтовое бунгало, белый от ярости и окончательно убедившийся в том, что Винтер удалось его перехитрить. Там он провел два отвратительных дня, мучаясь от безделия и страдая от приступов ярости и скуки. На третий день утром, услышав, что вода в реке спала, он возвратился в Дели.
Винтер проснулась и обнаружила, что лежит в замысловатом пятне солнечного света, проникшего в комнату сквозь резной деревянный ставень. На ней все еще было помятое утреннее платье из балзарина, в котором она уехала из дома Эбатнотов в Дели… Как давно это было? Ей казалось, что с тех пор прошли века; она оказалась совсем в другом мире.
Откинув легкое хлопковое покрывало, под которым спала, вытянула руки над головой. Она лежала на чарпои, низкой кровати с резными и раскрашенными ножками, в маленькой комнате, стены которой были выкрашены в веселый розовый цвет, а пол устилали тростниковые циновки. Кроме чарпои и циновок, другой мебели в комнате не было, и перед мысленным взором Винтер снова встало видение ее комнаты в Уэйре, с ее хаотично расставленной, громоздкой мебелью, темными обоями и гравюрами в тяжелых рамах. Разительный контраст заставил ее громко рассмеяться. Тотчас же в комнате послышалось шуршание шелков. Это появилась Амира. Она подошла к чарпои и, улыбаясь, посмотрела на Винтер.
— Мы не хотели будить тебя, — сказала Амира, — но солнце уже высоко, и если не хочешь пропустить дневную прогулку, скорее вставай.
Винтер быстро вскочила с постели и тут же наступила на подол своего помятого платья. Она упала бы на пол, если бы ее не подхватила вовремя подоспевшая Амира.
— Tenga cuidado! — воскликнула Амира, неожиданно переходя на испанский. — Почему ты носишь одежду, в которой невозможно ходить?
— Мой кринолин, — воскликнула Винтер, горестно глядя на свои волочащиеся по полу юбки. — Я сняла его и думаю, что он все еще на полу там, в почтовом бунгало.
Позабыв о более важных делах, она принялась объяснять заинтересованной Амире принцип устройства кринолина.
— Он держит юбки, понимаешь. Вот так.
— Как шатер! — воскликнула Амира. — Но это же должно быть очень забавно. Как в нем можно сидеть или проходить в двери?
Винтер продемонстрировала ей, как это можно делать, и Амира расхохоталась.
— Но неужели ты действительно ни разу в жизни не видела ни одной подобной штуки? — удивленно спросила Винтер. — Разве в Оуде нет европейских женщин?
Смеющееся лицо Амиры помрачнело.
— Да, — сказала она медленно, — здесь есть европейские женщины, но я не встречаюсь с ними.
— Но твоя мать?
— Моя мать умерла, — сказала Амира. — Разве ты не знала?
— Нет. Прости. Она писала нам, а затем перестала, и это все, что я знаю.
— Она умерла в год холеры, от которой в Лакноу умерло более пятисот человек за один день, — сказала Амира. — Ai de me! В Гулаб-Махале ты встретишь теперь немногих, кто помнит тебя.
— Но ты все еще говоришь по-испански, — сказала Винтер.
— Как видишь. Но теперь уже плохо. Мы пользовались им в детстве. Сейчас я мало говорю на нем, потому что моего мужа… моего мужа мало интересуют ферингхи и их обычаи.
— Твоего мужа! Так ты, значит, замужем?
— Конечно, — ответила удивленная Амира. — Я замужем уже пять лет. Неужели у тебя еще нет мужа?
Винтер засмеялась.
— Ты привезла меня на мою свадьбу!
Амира по-детски захлопала в ладоши.
— Правда? В таком случае это еще один повод поторопиться. Ты все должна мне рассказать, но сперва нужно поесть, и еще необходимо подыскать тебе одежду. Ты не можешь путешествовать в таком виде.
Она подбежала к двери и отдала кому-то ряд распоряжений. И почти сразу же Винтер была умыта, накормлена и одета в один из элегантных костюмов Амиры шумными, любопытными служанками.
— Зобейда хорошо заботилась, — одобрительно сказала Хамида, расчесывая тяжелые шелковые волны волос, достававших Винтер почти до колен. — Они мягче и тоньше, и даже длиннее, чем у Амиры Бегам. Неужели Зобейда уже не живет в этом мире, раз ее нет теперь с тобой?
Винтер кивнула, и Хамида вздохнула:
— Хай май! Все мы становимся старыми. Стой спокойно, дитя, пока я заплетаю. Мне не потребуется шерсть черной овцы, чтобы удлинять твою косу.
Ее ловкие коричневые пальцы заплели шелковые пряди в две толстые косы, перевитые цветными лентами.
— Ну, скажи, не правда ли, этот наряд гораздо удобнее твоего шатра из проволоки и рыбьих костей? — спросила Амира. — Такой я помню тебя, когда мы играли вместе на женской половине в Гулаб-Махале.
Теперь, когда обе женщины были одеты одинаково в свободные туники и вуали из тончайшего шабнама из Дакки, обе с иссиня-черными волосами, заплетенными в косы до колен, родство между ними стало очевидным.
Винтер, дочь Маркоса, более хрупкого сложения, как ее мать Сабрина, была не такой высокой, как Амира. Но глаза у них были одинаковыми; это были глаза де Баллестеросов, темно-карие, но не черные, огромные, влажные и прекрасные. Глаза нежной марокканской девушки, которая в глубине веков стала женой рыцаря Кастильи. У них обеих были маленькие, вздернутые носы и брови, похожие на ласточкины крылья. На этом их сходство заканчивалось.
Лицо дочери Хуаниты было нешироким, заостренным к подбородку, как и у Винтер, но в нем не было ее серьезности и выступающих, четко очерченных скул. Лицо Амиры было гладким, смеющимся, и хотя ее губы были такими же алыми, как у Винтер, они напоминали скорее плод граната, чем цветущую розу, а ее темно-золотистая кожа контрастировала с нежной, цвета слоновой кости, кожей Винтер, казавшейся рядом с ней совершенно белой.
Она была старше Винтер менее чем на два года, но благодаря примеси восточной крови уже окончательно созрела, обрела настоящую цветущую женственность, и ей можно было бы дать на десять лет больше, если бы в ее глазах, в ямочках на щеках и в уголках маленького, красиво очерченного рта не плясал постоянно веселый, беззаботный смех.
Винтер, чья жизнь в Уэйре была бедна весельем, посмотрела на радостные глаза Амиры и ощутила, как неожиданно прошло все ее напряжение. К ней вернулось хорошее настроение и появилось необычное для нее желание выбежать на солнце, закричать во все горло и играть весь день в какие-нибудь глупые игры. Смеяться ради самой радости смеха, наверстать упущенное за все долгие годы одиночества в Уэйре.