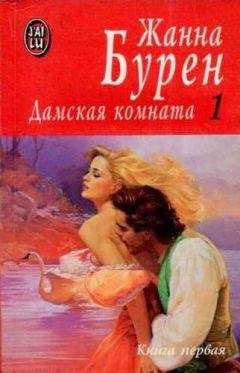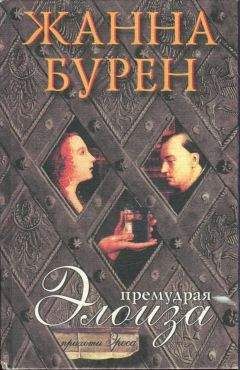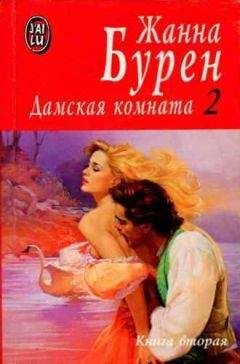— Дорогой Филипп, вам придется заполнить собою, своею любовью, пустоту в моем сердце, вызванную уходом из этого дома.
— Я буду день и ночь стараться ее заполнить, — уверил ее юный поэт с улыбкой, светившейся любовью, уверенностью и горячими воспоминаниями. — Не сомневайтесь в этом!
Хотя не было еще и шести часов, вечер уже заявлял о себе едва заметным изменением освещенности — чуть смягчалось по-весеннему резкое белое сияние дня, растушевывая очертания предметов. Через распахнутые в сад окна и двери волнами врывались ароматы цветов плодовых деревьев, левкоев, ландышей, молодой зелени, перемешивавшиеся с запахами, доносившимися из кухни, но не терявшими при этом своего очарования.
— Я всегда говорил: семья, и только семья, — поучал метр Брюнель младшего сына Бертрана. — Это же так ясно! И никто другой. Утром уже пришлось отказать Николя Рипо, который встретился мне на Большом мосту. Он пытался напроситься к нам на ужин вместе с женой. Вы знаете, как он настойчив в таких случаях! И все же я отказал ему, а теперь вот вдруг явился ваш брат и спрашивает, может ли он привести с собою молодого норвежца, такого же студента, как и он сам, — постоянно забываю, как его зовут.
— Гунвальд Олофссон, как мне кажется.
— Да, именно так; да еще и какого-то поэта из своих друзей, о котором с некоторых пор он прожужжал нам уши.
— Рютбёф?
— Он самый. Я не имею ничего ни против этого иностранца — он из хорошей семьи, отнюдь не глуп, — ни против этого рифмоплета, талант которого, невезенье и блестящее будущее превозносит Арно, но, в конце концов, они же, насколько мне известно, не нашего круга.
— Оба они так одиноки в Париже!
Метр Брюнель несколько раз шумно вздохнул, выдыхая воздух прямо перед собой, как это делают разгоряченные лошади. Всякий раз, когда ему противоречили, он таким образом демонстрировал свое неудовольствие.
— Кроме того, — заговорил он снова, — Филипп только что сообщил, что у нас будет и его кузен из Анжера, тот самый молодой меховщик, приехавший специально на свадьбу. Он его пригласил. Ну, этот еще ладно: как-никак родственник. Хорошо. Но и ваша мать, вдохновленная уж не знаю каким дьяволом, по дороге из Нотр-Дам зашла к моему кузену Обри, чтобы пригласить сюда и его, вместе с его женушкой и красоткой-дочерью…
— Полно, отец, не выходите из себя!
— Есть от чего! Всем известно, как я не терплю этих двух бабенок. Просто не могу понять, почему все только и думают о том, как бы не забыть их пригласить!
— Право, Этьен, вы безжалостны! Вы меня удивляете, зятек!
Марг Тайефер, бабушка Матильды, старуха, пережившая дочь и мужа, утонувших вместе во время прогулки в лодке по Сене, к восьмидесяти годам осталась с двумя другими дочерьми, которые были в монастыре, и с единственным сыном, впоследствии убитым под Бувинами, на севере страны; других родственников, кроме семьи ювелира, у нее нет. Мстительный нрав, несдержанность, тираническая жажда собственности, беспредельное упрямство, яростное стремление оставаться независимой делали из нее, несмотря на проявления непокорности, отшельницу, не решавшуюся поселиться у Матильды, которая ей это сто раз предлагала. Дому Брюнелей она предпочитала плохо содержавшийся, обветшалый дом на улице Сен-Дени, невдалеке от Гран-Шатле, в котором родилась и который отказалась покинуть несмотря на шум и толпы прохожих, которые ей приходилось терпеть, — ведь дом оказался на очень оживленной улице. Живя в нем с двумя слугами, привыкшими к особенностям ее характера, она не без личного удовлетворения наблюдала, как уходили из жизни один за другим ее ровесники и современники, и с злобным неудовольствием за тем, как поднимались новые поколения. Она была готова критиковать всех своим резким голосом, на тоне которого совершенно не отражался ее возраст. Лицо ее, не слишком испещренное морщинами, с заостренными носом и подбородком, отнюдь не дышало снисходительностью.
— Вы судите об этом по-своему! Я, матушка, не люблю чувствовать, что меня к чему-то принуждают.
— Ну вот! Чем я опять не угодила!
Вошла Матильда. Вся в белом, Кларанс сопровождала ее.
Если супруга ювелира и старалась как можно естественнее выказать свое беспокойство, которого на самом деле не ощущала, то это было не больше чем кокетство без последствий. Она знала о нерушимом постоянстве чувств Этьена к ней и о том, что он порой может давать ей козыри против себя самого.
— Вы никогда не делаете ничего, что могло бы показаться мне плохим, дорогая, — сказал Брюнель, поскольку она ждала ответа на вопрос, — однако должен признаться, я вполне обошелся бы без этих Лувэ — мужа, жены и дочки!
Разговор прервал стук, донесшийся от парадного входа. Несколько секунд спустя вошел Гийом Дюбур. Он подошел поздороваться с Матильдой, взволновавшейся больше, чем ей хотелось бы, со смерившей его пренебрежительным взглядом Марг Тайефер, с Флори и Филиппом, слишком занятыми друг другом, чтобы надолго обратить на него внимание, с метром Брюнелем, с Бертраном и, наконец, с Кларанс, которая пристально разглядывала его с любопытством и несколько дерзко. Верный данному себе обещанию, Гийом сумел скрыть ото всех волновавшие его чувства.
Прибытие Шарлотты, устроившейся вместе с Матильдой на подушках скамьи с высокой спинкой, чтобы спокойно поболтать, появление Арно с обоими друзьями и, наконец, Обри Лувэ, шествовавшего между женой и Гертрудой, ее дочерью, родившейся до брака, против которого возражала семья, вызвали некоторую суету среди собравшихся, достаточную для того, чтобы Гийом незаметно отошел в сторону.
Гости окружили молодоженов. Сыпались приличествовавшие случаю замечания.
— Вы, право же, совсем не изменились, милочка, — прогнусавила Изабо, — по меньшей мере, на вид…
Сорок лет, отмеченные бурным прошлым, размягчившие ее формы, обесцветившие взгляд, тщательно выкрашенные волосы, некоторая величественность осанки, самые модные румяна, уверенный вкус в одежде, при непостижимо вульгарных походке и произношении, делали из жены аптекаря женщину, чьи недостатки были видны лучше, чем достоинства.
— Несмотря ни на что вы по-прежнему выглядите ангелочком, — продолжала она, словно что-то смакуя.
Прозвучал и ее смех, вполне сравнимый с ржанием кобылы.
— Поскольку собрались все, можно сразу же за стол, — проговорил Брюнель, плохо скрывая раздражение. — Пожалуйте мыть руки!
Тут же вошла экономка в сопровождении двоих слуг с тазами, орнаментированными серебром, и со сложенными белыми полотенцами. Они поочередно полили на руки гостям шалфейную воду из прекрасных чеканных кувшинов. Лишь после этого омовения гости расселись по одну сторону длинных столов.