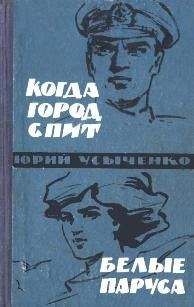— Вы думаете, на этом конец? Где там! Когда брат мой умер, Винцуне было десять лет, и ее, как водится в шляхетской семье, еще ничему не учили. Отец всегда говорил: девушке науки ни к чему, а с грамотой еще успеется.
Потом, когда все хозяйственные заботы пали на меня, я и думать не могла, чтобы учить ее чему-либо, да и по правде-то говоря, чему я могла ее научить? Я, сударь, сама простая шляхтянка, умные книги не про меня, а если что и знала когда-то, все давно вылетело из головы. Винцуне уже и двенадцать исполнилось, а она даже азбуки не знала. Жалко было смотреть на девочку, как она растет, словно деревце в лесу, но что я могла поделать? О гувернантке нечего было и мечтать, какие гувернантки, если мы не сегодня завтра могли лишиться куска хлеба и крова над головой?
Так вот, как начал пан Болеслав тут у нас хозяйничать, так стал он и Винцуню учить. Говорит, бывало: когда панна Винцента вырастет, у нее будет недурное состояние, пускай же она и образование получит, чтобы имела понятие о той задаче, какую жизнь ставит перед женщиной, да и о своих общественных обязанностях; мол, как-никак землевладелица, должна отвечать за свой кусочек земли.
Учил он ее читать, писать, считать, учил географии, истории и я уже не знаю, чему еще. Бывало, сижу себе, вяжу чулок, а он там разглагольствует о всяких королях, о великих людях, о каких-то чужих народах, о далеких городах, а девчоночка слушает и глотает каждое слово, смышленая она была, живая, как искорка, — да она и сейчас такая. Потом стал приносить ей разные книжки; они вместе их читали, а уходя, он всегда просил ее, чтобы она и сама читала в свободное от домашней работы время.
Таким вот манером, сударь, и выучилась девочка, и отлично выучилась. Теперь и перед людьми не стыдно, ей есть о чем поговорить, а слушая, тоже рта не разинет, как будто диво какое услышала. Правда, по-французски она не умеет, но ей и ни к чему. Зато она играет на фортепьяно, потому что пан Болеслав сказал, что «женщина и музыка — это родные сестры и должны ходить в паре», и попросил учителя музыки в нашем городке, чтобы тот давал Винцуне уроки. Три года подряд он к нам приезжал, по три раза в неделю, а я ему за это платила. Но мне этих денег не жалко, они пошли впрок, и теперь я сама с удовольствием слушаю, когда Винцуня играет. Правда, только небольшие вещицы, но другие ей и ни к чему. Зато как заиграет краковяк или мазурку, ну, сердце так и скачет в груди, а от украинской «думки» так прямо плакать хочется.
Вот, сударь, чем мы обязаны пану Болеславу, но он это делал не по какой-либо обязанности и не корысти, а только по своему благородству и по сердечной своей доброте. Благослови его за это Господь!
И еще долго Неменская говорила, добавляя все новые подробности о Болеславе и о его достойных делах, а пан Анджей, подперев голову рукой, внимательно слушал, и время от времени губы его слегка шевелились, когда он шептал:
— Такие-то нам и нужны! Такие-то и нужны!
Меж тем перед крыльцом разыгрывалась сценка совсем в другом роде. Под ветвистым кустом сирени стояла большая бочка с водой, а рядом с бочкой стоял Болеслав и раз за разом наполнял жестяную лейку, которую подавала ему Винцуня. Девушка, подобрав свое розовое платье, чтобы его замочило вечерней росой, поливала недавно посаженные на клумбах цветы.
Серебристые струйки веером брызгали во все стороны, среди этих подвижных фонтанов мелькала тоненькая фигурка, а шум брызжущей из лейки воды аккомпанировал звукам песенки, которую тихо напевала Винцуня. Впрочем, песня часто перебивалась то радостными восклицаниями при виде только что распустившегося цветка, то просьбами снова наполнить лейку.
Болеслав погружал посудину в бочку и, вытащив, подавал ее Винцуне. Вдруг она сказала:
— Смотрю я, как вы черпаете для меня воду, и мне кажется, будто мы с вами библейские Иаков и Рахиль. Только у нас не колодец, а бочка.
— И вы не пасете овец, — с улыбкой добавил Болеслав.
Винцуня рассмеялась громко, задорно.
— Вам спасибо, а то бы и пасла! — крикнула она со смехом и побежала к другой клумбе.
Болеслав стоял, прислонившись к сиреневому кусту, и следил глазами за тоненькой девичьей фигуркой; казалось, он не в силах от нее оторваться.
Винцуня напевала, а он молчал, переполненный чувством, от которого у него пересекалось дыхание в груди; наконец он глубоко вздохнул и тихо, чуть слышно, прошептал:
— Моя!
В одном этом коротеньком слове выразилась вся его мужская гордость, вся радость и безграничная любовь.
Вдруг Винцуня, как видно утомившись, бросила лейку, опустила руки и, став посреди дорожки, крикнула ему:
— Почему вы ничего не делаете, пан Болеслав? Я тут работаю, а вы только стоите себе да поглядываете. Еще две клумбы надо полить. Вон там под кустом другая лейка, возьмите ее и помогайте!
Несколько секунд Болеслав стоял неподвижно. Затем, вместо того чтобы взяться за лейку, он быстро подошел к Винцуне, схватил ее руки и осыпал их поцелуями.
— Винцуня, моя дорогая, любимая моя, — говорил он тихонько, глядя ей в глаза.
Винцуня опустила голову и не отвечала, а он все крепче сжимал ее руки и шептал, почти неслышно, бессвязно нежные, ласковые слова.
Сумерки все сгущались, несколько крупных звезд выступало на темном небосводе, над липовой аллеей всходила яркая круглая луна.
— Пан Болеслав, — прошептала наконец Винцуня, — вы так добры ко мне, я этого не стою!
И еще ниже склонила голову, а по ее лицу пронеслось облачко грусти, так не вязавшейся с ее обычной веселостью.
— Ты мне дороже всего на свете, — тихо отвечал Болеслав, — ты моя звездочка ясная, моя голубка, мой цветочек душистый, радость глаз моих! Ты будешь счастьем и украшением всей жизни! Ты ведь меня любишь, моя единственная? Винцуня, скажи, ты любишь меня?
Она молчала, упорно не поднимая глаз.
— Винцуня, скажи, что ты меня любишь! — говорил Болеслав все более страстно, все более требовательно. — Я знаю, что это так, о да, знаю! Иначе как мог бы я жить? Но я хочу это услышать от тебя самой. Почему ты никогда мне этого не говоришь? Что тебя удерживает? Девичья стыдливость? Робость? О, не стыдись, не бойся, я уже теперь твой муж перед Богом и в сердце своем, а слышат нас только твои цветы, и они не повторят того, что ты скажешь, никому-никому, ведь ты их родная сестричка! Винцуня! Ты любишь меня?
Родная зашелестели листья сиреневого куста, и капля вечерней росы с легким стуком упала в траву. Девушка молчала. Глаза ее были прикованы к земле, губы сомкнуты, ни разу не заставил их приоткрыться вздох волнения, даже дыхание не участилось, хотя ее руки покоились в горячих руках нареченного, а взгляд его и слова могли бы, казалось, прожечь камень.