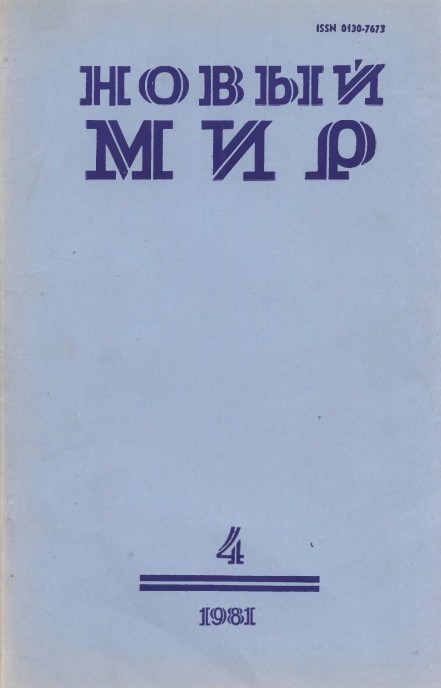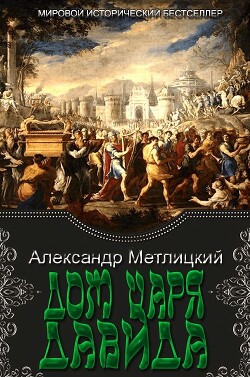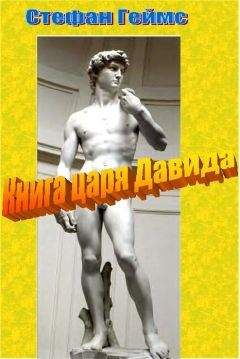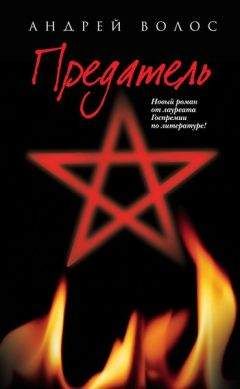речение: «Сын твой, государь, еще в пеленицах, а владети нам Захарьиным». Такие слова запомнились, и хотя сам Алексей Адашев присягнул царевичу Димитрию, шаткость адашевского рода стала Ивану Васильевичу очевидна и наглядна.
Федор Григорьевич пришел полухмельной, хвастал прошлыми заслугами, заносился, а потом потребовал ни много ни мало, чтобы старший сын поручил ему посольство в Крым. «Я к салтану турецкому в послах ходил, а салтан старше хана, значит, мне эта служба нипочем». Господи, да когда оно было, твое посольство! Ну а прежде всего более неудачной поры для такой просьбы придумать было нельзя. Государь супится, после болезни и присяги никому верить не хочет, надо погодить, пока все успокоится, а не лезть на рожон. Но поди доказывай настырному старцу! Отец ушел разобиженный, с упреками в сыновней непочтительности, неблагодарности, зазнайстве.
Алексей Адашев, не по годам тучный, погладил рыжеватый бобрик на голове («Сей рыжий барсук»,— не ко времени вспомнил он) и, уняв одышку, проследовал в Крестовую палату, где должно было состояться сидение Избранной рады.
Свои неурядицы были у боярина Ивана Петровича Челяднина. Взрослая его дочь Дарья Ивановна проявила неожиданную строптивость. Никак не ожидал суровый отец от своей боярышни такого противления родительской воле. Когда еще протопоп Сильвестр составлял свой «Домострой», Челяднин присоветовал ему усилить изложенье картинами строгих наказаний для младых строптивцев. Но на собственную дщерь у главы рода рука не поднималась. В Дашеньке, по правде говоря, он души не чаял, и ему ли, закрутив косу на руку, как советовал тот же «Домострой», было учить дочку уму-разуму. Куда там!
Дело обстояло просто и сложно. Не так уж круты оказались теремные порядки, коли боярышня могла углядеть в раскрытое окошко темные глаза и румяные щеки Феди Писемского, Сама она ходила, утопив оченьки, и когда уж успела поднять взгляд на красавца дьяка, уму непостижимо. Ан подняла, ан углядела! Непонятно было властному боярину, как вчера еще посторонний юнец стал вдруг человеком самонужнейшим в девичьей светлице. Непонятно никому, как безвестный Федя нашел ходы-выходы в недоступный терем. Исхищренному в дворцовых сплетнях Челяднину было невдомек, что женская воля, изгибчивая и хитроглазая, проникнет хоть в замочную скважину. Как раз в замочную скважину она и проникла, припрятанные ключи в терем открыли заповедные двери.
Нечего было говорить, что Иван Петрович был против такого брака. Боярин мог бы махнуть рукой на нарушение дедовских обычаев, не дозволявших девице видеть жениха до дня свадьбы. Новые времена, новые нравы! Однако отдать единственную дочку замуж за худородного дьяка было ему не к лицу. Писемский, конечно, из дворян, но самого незаметного достоинства, и сие надо было помнить. Правда, состоял он в приближении у государя и был взыскан царской лаской. При теперешних трудных обстоятельствах это могло стать на руку Челяднину. «Глядишь, и от мальчишки помощь может прийти».
Человек твердый и жесткий, Челяднин на этот раз не знал, на что решиться. Федя был малый ласковый и почтительный, но не такими мерками меряют будущего зятя. А его требовала объявить женихом вся женская половина челяднинских хором. За спиной Ивана Петровича остался растревоженный курятник. Квохтанье и кудахтанье слышны были небось за версту. У Челяднина с утра разламывалась голова.
Один только Сильвестр полон был заботами собора. В диспуте он тоже видел царскую блажь, но так как пренебречь государевым повеленьем никто не мог, он решил ввести ее в привычное русло. Для собора дел, вопросов и разбирательств оказалось слишком много. Даже больше чем нужно. За Матвеем Башкиным, еретиком сомнительным, вставал Феодосий Косой, ересиарх уже несомненный. В подозрении оказались бывший троицкий игумен Артемий, путаный дьяк Иван Висковатый, вздумавший поправлять иконописцев, архимандрит суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Феодорит и шушера поменьше. Собором надлежало воспользоваться, чтобы дать острастку вольнодумцам и богопротивникам. Причем за поступки не только совершенные, но замышленные, не имевшие быть, а имеющие быть. Сильвестр никак не хотел вступать в ссору с царем и надеялся избежать ее тем, что предоставил Матвея Башкина в полное распоряжение Ивана Васильевича. «Пусть устраивает с ним прю словесную, а мы потом займемся своими делами»,— подумал протопоп. Нет, Сильвестру никак не желалось быть ввергнуту во львиный ров. Одначе человек предполагает, а бог располагает, и царь Иван Васильевич ожидал своих советников в Крестовой палате.
Первым попал под удар Андрей Михайлович Курбский. Князь оторопел, услышав вопрос о вчерашнем пиршестве. Совладев с неожиданностью, он попробовал возмутиться:
— С каких пор, государь, стал ты держать шишей в моем дому?
— Шишей? — подивился своеочередно царь.— Нужны ли шиши, когда твоя дворня в кабаке на Балчуге вовсю трезвонит о том, что их господин всю ноченьку распивал романею с бездельным князем Щетининым? Да не токмо распивал, а играл в Черчеллеву игру с сим трутнем. Играл и проиграл. Что, неправду говорю?
— Истинную правду,— подтвердил заскучавший Андрей Михайлович.
— Потеря ярославского имения твоего не любезна ни господу богу, ни мне, царю и великому князю московскому и всея Руси,— недовольным голосом продолжал государь, для весомости произнеся свой титул.— Больно легко отцовскими и дедовскими землями разбрасываться стали. Велю отобрать беззаконное приобретение у Сеньки Щетинина и вернуть тебе.
Князь Андрей Михайлович Курбский, наиблагороднейший из вельмож московских, приосанился, вздернул прямой нос, слегка раздул ноздри и, заискрив серыми глазами, произнес сентенцию, которая вызовет в веках тысячи разорений и самоубийств:
— Оставить все как было. Карточный долг, государь, долг чести.
Иван Васильевич насмешливо фыркнул.
Сильвестр принял второй удар.
— Как вести собор будем? Что присоветуешь? — спросил царь.
— Будем вести, как допрежь вели. Порядок известен по другим соборам.
— Известен, да не совсем. Хочу пожаловать Матюшу Башкина, вступив с ним в диспут, сиречь прю словесную, и с божьей милостью одолеть его в сем дис-пу-те.
При сих словах Иван Васильевич осклабил рот в царственной улыбке. При этом показались здоровенные желтые клыки, посреди коих темнели широко расставленные резцы.
— Вместно ли тебе, великий государь,— спросил Сильвестр не без намерения подольститься,— с подлым рабом своим о высших делах рассуждать?
— Как не вместно,— неожиданно обозлился царь.— Коли мя, горемычного невежу, слуги мои верные ежедень вразумляют, страшилами детскими приграживают. Поневоле с худородным Матюшей заговоришь.
— Те страшила суть речения пророков, да притом ветхозаветные, негоже их хулить,— мрачно возразил протопоп.
— Прости мя, неумываку глупого,— заюродствовал вдруг царь-государь,— сам не ведаю, что несу. Разве мне вдомек, что те словеса из Святого писания, полагал, что ты побасенками пужаешь.
— В ту пору словеса из Писания наставили тебя к добру, великий