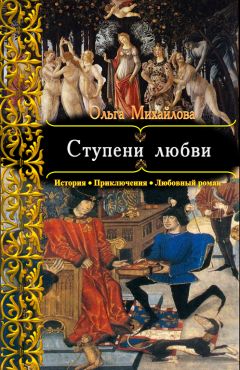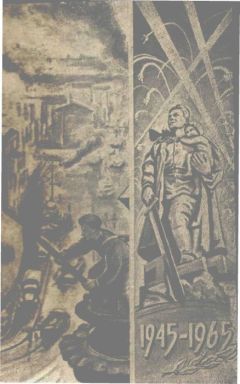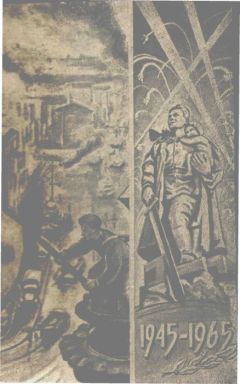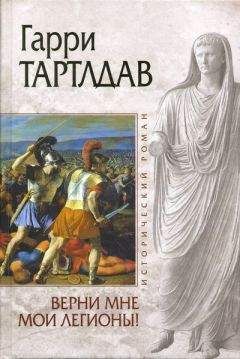Лицо Энрико перекосилось гримасой — не то шутовской, не то болезненной.
— А что тут скажешь? — вскинул он руки, как ярмарочный арлекин. — Я место своё помню — Чечилия дочь графа и сестра друга.
— Ты влюблён?
Энрико растянул губы в безрадостной улыбке.
— Нет. Северино сказал, что я неспособен на это. Значит, не влюблён.
— А почему неспособен?
— Потому что я гаер и комедиант, фигляр и скоморох, пустозвон и кривляка, человек неглубокий и поверхностный, бесчувственный и пустой. — Энрико подмигнул Амадео, но без улыбки, — короче, полное дерьмо, — снова усмехнулся он, и снова невесело.
Амадео улыбнулся. Крочиато в его глазах был человеком приличным, он признавал в нём и честь, и великодушие, и благородство, и сейчас был подлинно заинтригован: зачем благородному человеку понадобилось заверять своё благородство рескриптом на пергаменте?
Энрико ушёл, трепещущими руками завернув в бархат драгоценные документы.
Через час должен был прийти Северино, а пока Амадео обдумывал разговор с Крочиато. Вообще-то Котяра мало изменился: всё те же кривлянья и неунывающее веселье. При этом, было очевидно, что он не желает говорить о сокровенном, но это могло означать как то, что Чечилия подлинно свела его с ума, так и то, что на самом деле Энрико понимал, что им просто забавляются. Менее очевидным было скрытое соперничество между ним и Северино, Энрико всегда гордился неизменным преимуществом, оказываемым ему женщинами. Вопреки тому, что из них из всех Рико был наименее красив и знатен — он пользовался невероятным успехом у женщин, который завистники были склонны объяснять даже колдовством. Амадео же постигал тайну этой дьявольской привлекательности друга: Энрико обожал женщин, причём ценил не только постельное упоение, но был романтичен и чист в своём восхищении, умел упиваться красотой и уважал женское достоинство. Он никогда не хвастал победами, ни об одной девице не выразился уничижительно, а светившийся в его глазах искренний восторг льстил женщинам. С ним каждая чувствовала себя королевой.
Амадео знал и то, что Северино всегда страдал от замечаемого поминутно преимущества Энрико, ибо сам, несмотря на внешнее благообразие, никогда не пользовался успехом, был робок с женщинами, хоть в мужской компании превосходил всех. Но это, как ни странно, не разрушало дружбы Ормани и Крочиато, разве что Северино позволял себе ворчливо-уничижительные замечания в отношении кривляки-Селадона, а Энрико отшучивался и паясничал, не замечая даже прямых оскорблений в свой адрес и игнорируя все злобные выпады Ормани, и помня только благие деяния дружка, подлинно несколько раз вытаскивавшего его из самых дурных передряг — иногда на своей спине.
Северино появился без опозданий и восковая бледность его лица проступила явственней — он, казалось, был подлинно болен. Они обнялись, Северино в нескольких лаконичных словах рассказал Амадео, что им предпринято после его сообщения: приём работников в замок прекращён, за поваром установлено тайное наблюдение, его люди — три человека — проверяют все, что подаётся на стол его сиятельства.
Надо сказать, что известие Амадео Лангирано подлинно не прошло мимо ушей Энрико Крочиато и Северино Ормани, и оба, уединившись после расставания с Амадео в покоях Северино, обсудили опасность, угрожающую Феличиано. Оба знали братьев Реканелли и ни минуты не считали угрозу пустой.
После смерти Анжелины Ланди и старого графа Амброджо Чентурионе по приказанию Феличиано службы были сокращены, многие вассалы отпущены, бывшие фрейлины виконтессы разъехались по домам, и ныне в замке помимо дюжины слуг и служанок, Энрико Крочиато оставил только истопника, пекаря, мясника, кузнеца, шорника, плотника, двух каменщиков да повара, выходца из Ареццо Мартино Претти, и пару его поварят.
Охранял замок Эннаро Меньи, начальник эскорта конников, куда входили шестеро конных стражей — Пьетро Сордиано, Микеле Реджи, сын кормилицы графа Катарины Пассано Никколо, сын повара Мартино Претти — Теодоро, а также мантуанец Руфино Неджио и венецианец Урбано Лупарини. Меньи командовал и двумя привратниками. Самому Энрико Крочиато, казначею и управляющему, помогали писарь, стольник, кравчий и камергер.
Главный ловчий Северино Ормани имел в подчинении двух ловчих, ему повиновались шталмейстер с сокольничим. На особом положении в замке была Катарина Пассано — кормилица графа Феличиано, по мнению донны Лоренцы Лангирано — умнейшая женщина, но по мнению весьма многих — старая ведьма.
Всего в замке, вместе с графом, его сестрой, братом и вассалами, проживало около сорока человек. Друзья рассуждали логично: если мерзавцами Реканелли запланировано отравление — первым купить попытаются повара. Но Мартино Претти жил в замке уже двадцать лет, его жена Мария была кастеляншей, а сын Теодоро служил в охране. Здесь был дом Мартино и на его жаловании ни Амброджо Чентурионе, ни Феличиано никогда не экономили. Поварята были сиротами — племянниками самого Мартино.
Северино вызвал Мартино и предупредил об опасности заговора против жизни молодого графа. Мартино насупился. Он готовил в основном, из графских закромов, мука, молоко, сметана, сыры, мясо и рыба были собственными. Иногда он посылал слугу на рынок — но, помилуйте, кто же мог знать заранее, что он выберет? Претти сказал, что закроет доступ на кухню всем, кроме своих поварят и слуги Джанно. Новость, что и говорить, не нравилась повару — Мартино приготовление блюд считал священнодействием, и то, что какая-то мразь хочет испортить ядом его стряпню, представлялось ему святотатством.
За стольника Донато ди Кандия, рыцаря, Крочиато ручался. Кравчий, генуэзец хорошего рода, был известен им уже десятилетие, Энрико считал его человеком чести. Стольник и кравчий дружили и никогда не пошли бы на мерзость. Охранники не имели прямого доступа к столу графа, служилый люд — тоже: все они ели отдельно, в гостиной зале за кухней. Подчинённые Северино столовались в зале Менестрелей, в донжоне замка, неподалёку от конюшен, так им было удобнее. Так кто же мог бы подсунуть графу отраву?
Северино Ормани велел Меньи усилить охрану, Энрико приказал писарю проверить всех слуг и служанок замка, оба распорядились прекратить приём новых работников.
Теперь Северино пожаловался Амадео.
— Смешнее всего, что в последние два месяца он ест, как монах. Просит сварить яйца, съедает несколько ломтей хлеба и кусок рыбы…
— Ты не пытался с ним поговорить?
Северино замялся, пожал плечами.
— Как? В душу не влезешь, а он и не пустит. Нет, я его понимаю. Душу открывать он нам не обязан, но мы же… не чужие ему. Я как-то спросил у него, что его тяготит? Он ответил, что есть скорби, которые ни с кем не разделишь. Я понимаю его.