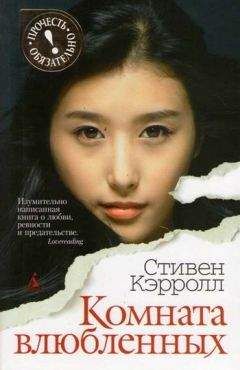Ознакомительная версия.
Они прожили вместе два года, Галда успела родить ему сына, а потом Беркуло снова попался, снова сел, а жена… ушла. Он узнал об этом в тюрьме. Перед самой высылкой по этапу к нему пришла на свидание Кежа.
– С чего ж она ушла? – спросил Беркуло, сам удивляясь тому, что, кроме лёгкой досады, не испытывает ничего. – Обижал её, что ли, кто?
– Бог с тобой, никто не обижал! – Заплаканная Кежа только отмахнулась. – Сука твоя Галда, только и всего! Три дня рядом с нами чужой табор стоял… С ними она и ушла. Верно, кто-то из цыган ихних ей, паскудине, глянулся… Ты не мучайся, щяворо, не стоит она мучений твоих! Сына, слава богу, оставила – и скатертью ей дорожка!
– Так Ибриш у тебя остался?
– А как же! Она его с собой не взяла, зачем ей?.. Тьфу, чтоб ей, заразе, подохнуть! И хорошо, и слава богу, что ушла! – убеждённо сказала Кежа, ударяя кулаком по расстеленному на коленях цветастому фартуку. – Тебе ж лучше, щяворо. Выйдешь – другую себе возьмёшь, во сто раз лучше!
– Не возьму, – с напускным безразличием зевнул Беркуло. – Все вы одинаковые, бабы-то… гадюки. Какой с вас прибыток? Горе одно.
Кежа не ответила. Когда же молчание начало затягиваться и Беркуло с удивлением поднял на неё глаза, он увидел, что по смуглым впалым Кежиным щекам ползут слёзы.
– Ты чего? – немного растерялся он.
– Собачьи вы дети, все до одного, вот что, – сдавленно сказала Кежа, не вытирая слёз. – Мы вас ждём, а вы нас – гадюками… Я Мирчу третий раз в тюрьму провожаю… В третий! И сколько лет теперь без него… – Она захлебнулась рыданием, прижала кулак ко рту, зажмурилась. – Ах вы, мужики, мужики… Кабы вы хоть минуту в жизни своей про нас подумали, про слёзы наши…
– Да что про вас думать-то?.. – усмехнулся Беркуло. Но всё же он был смущён и, помедлив, взял холодную, мокрую от слёз руку Кежи, прижался к ней лбом. – Прости. Злился на Галду, а обидел вот тебя…
Она отрывисто вздохнула, погладила его по щеке.
– Глупый ты ещё… молодой. Что из тебя тюрьма сделает?..
– Хуже, чем есть, не будет, – через силу улыбнувшись, пообещал он. – Ступай. Тебе с Мирчей дадут свиданку?
– Не знаю. Пойду сейчас начальника просить. – Разжав кулак, Кежа показала золотое кольцо. – Моё, свадебное. Может быть, возьмёт да даст повидаться. А ты будь спокойным, сына твоего выращу.
Это был первый серьёзный срок для Беркуло: его отправляли в Нерчинск, и выйти на свободу он должен был только в двадцать восемь лет.
Про Кежу он думал часто, гораздо чаще, чем про сбежавшую жену, черты которой вскоре стёрлись из памяти настолько, что, встреть Беркуло её случайно на улице, пожалуй, и не узнал бы. А тёмное худое лицо Кежи вставало перед глазами каждый день. Ничего плохого он поначалу и в мыслях не имел: Кежа была женой его брата, и Беркуло скорее руку бы себе отрубил, чем попробовал бы… Тьфу, и думать-то о таком паскудно! Но в одиночестве каторжных дней мысли вели себя как хотели, распоясались до полного бесчинства, и Кежа стояла и стояла перед глазами со своим погасшим взглядом, тихим, чуть хрипловатым голосом, тёплой ладонью, которой она тогда, на последнем свидании, коснулась его лица… Она была всего на шесть лет старше его, и в конце концов Беркуло додумался до того, что чем чёрт не шутит. Брат-то может с каторги и не вернуться, а там уж… Потом спохватывался, ругался страшными словами, гнал от себя грешные мысли. Иногда помогало.
Амнистия семнадцатого года неожиданно принесла волю. Но бывшую империю трясло и колотило, дороги были полны беженцами, вся Россия, казалось, превратилась в большой и бестолковый табор, и Беркуло тоже вдоволь помотало по стране. Осенью двадцатого года он в поисках родни добрался до Феодосии. Но ни одного кишинёвца на городском базаре Беркуло не обнаружил. С голодухи подводило живот. От отчаяния, наудачу он попытался было залезть в пояс какому-то греку, важно бродившему по полупустым рядам, но вышла незадача: грек почувствовал чужую руку и поднял страшный шум. Беркуло махнул было через ряды, но его быстро догнали, повалили, отметелили всем базаром и отволокли снова в тюрьму. На этот раз удача не улыбнулась ему, даже не повела плечом. Отвернулась и ушла, как чужая.
Суда, впрочем, Беркуло так и не дождался: той осенью врангелевцам было не до уголовного элемента, сидящего в тюрьме. На Перекопе шли последние бои, красные рвались в Крым, белые с отчаянностью обречённых удерживали свои последние позиции. Из порта каждый день отваливали суда, переполненные беженцами. По ночам в тюрьме слушали глухие орудийные удары, крутили головами и строили планы.
– От кабы в тюрьму ударило, урки, а? – мечтательно улыбался молодой одесский вор Зяма Глоссик, ловя по швам грязной тельняшки вшей. – Вы ото ж вообразите себе картинку: стены разваляются, а посерёдке – мы как на тарелочке… Тю, красота!
– Не примите за оскорбление, но вы болван, Глоссик, – презрительно перебивал его «интеллигентный» марвихер[13] Крассовский. – Ежели ударит в тюрьму, то от вашей наглой личности останутся одни воспоминания для вашей мамы… И от нас всех, к сожалению, тоже. Молитесь, чтоб ударило рядом и желательно в комендатуру. Эти золотопогонники ничего не понимают в порядочных людях! Где это видано, чтоб уважаемого урку сажали без суда и следствия, за одну репутацию?!
– Ай, Крассовский, не принимайте позу! Господа вам оказали такое уважение, а вы не цените… От большевиков вы такого навряд ли дождётесь, у них все равны!
– Скоро к чертям собачьим перестреляют усих, и амба… – сипел с нар старый карманник Жмых, чёрный и скрюченный, как забытый на грядке перец. – Сёма Жареный у Харькови сидев, когда Деникин оттуда отходив… Щоб не думать долго, усих повыводилы – и урок, и политических – и с пулемёту покосилы, як ту травку… Никого живого не выбралось, усих беляки в овраг свалилы – и потиклы сами до Крыму… Куда им с арестантами возиться, колы краснюки на хвосте?
– Жмых, не гадьте людям на последнюю надежду, – лениво осаживал его Крассовский. – В ваши годы так брехать просто невоспитанно. Слыхал я за этот шухер в Харькове… Коли там всех покосили, то откуда вы-то за это дознались? На сеансе спиритизма? Нет, пусть господа офицеры стреляют своих идейных противников! Вон вся соседняя камера ими напихана! Давеча я стучал им и вежливо просил: граждане, прекратите завывать «Интернационал» среди ночи, уважаемые люди не могут спать! А они что? Грянули «Марсельезу»! Да ещё дурными голосами! А у меня консерваторский слух, я не могу этого выносить!
Жмых кряхтел, поглядывал на Крассовского злобно, подозревая в мудрёном слове «спиритизм» оскорбление для своего воровского достоинства, но провоцировать драку не решался.
Ознакомительная версия.