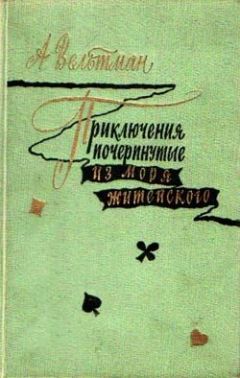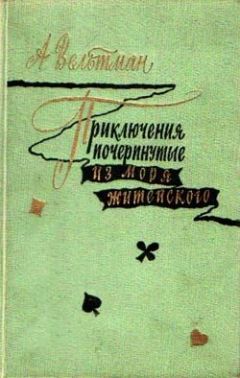— Может быть. Они пошли в сад.
— Нет!.. Пропала! — повторял Чаров, обходив все дорожки небольшого сада.
— Кто видел, куда пошла дама? — допрашивал Карачеев у людей.
Никто не видал.
— Что за чудеса!
— Верно, она вышла в парк.
— Не может быть! — сказал Чаров.
Но после долгих поисков и расспросов он побежал в парк, околесил все дорожки, всматривался во все лица…
— Нет!
— Чаров, Чаров! — кричали встречные приятели, — куда ты?
— Ах, пошел, ска-а-тина! — отвечал он, толкая от себя и приятелей, и знакомых, и незнакомых,
— Кого ты ищешь?
— Не тебя, у-уфод! А Саломеи нет. Чаров в отчаянии.
— Ах, проклятая! — повторял он сначала, с трудом переводя дух от усталости; но скоро его взяло горе. Смерклось уже, а он ходил взад и вперед по всему парку, останавливался, и чуть завидит вдали какое-нибудь уединенное существо, торопится к нему и всматривается в лицо, как будто забыв и наружность и одежду Саломеи, и подозревая, не приняла ли она на себя чужой образ.
Гуляющая публика стала редеть, разъезжаться; истомленный Чаров, как опьянелый, возвратился на дачу Карачеева.
— Что? Здесь она?
— Нет.
Чаров свистнул и бросился на крыльце на стул.
— Вам не нужен уже экипаж? — спросил Карачеев, — мне необходимо послать скорее за доктором.
— Что такое? — спросил Чаров.
— Коляска вам нужна?
— Коляска? Черт ли мне в коляске, когда ее нет!
— Так я отправлю, — сказал Карачеев.
— Кабриолет мой уехал? — спросил вдруг Чаров,
— Давно.
— Ну, так! верно, она удрала в изломанном кабриолете!.. Нелепые женщины!.. Одолжите, пожалуйста, коляски, я поеду.
— Я коляску отправил за доктором, жена больна… и потому нельзя было ждать…
— Да что, кого ждать, — сказал Чаров, совершенно растерянный.
— Я пошлю за извозчиком.
— Да, да, в самом деле.
Карачееву было не до гостя. К счастию его, извозчика скоро нашли, Чаров вскочил на дрожки и велел гнать и в хвост и в голову.
— Приехала домой эта дама?
— Какая-с?
— Дурак! Какая! спрашивает!..
— Никак нет-с.
— Как нет-с?
— Никто еще не изволил приезжать.
— Вот тебе раз… Что теперь делать?
И Чаров в отчаянии ходил по комнатам, свистел, распевал, закуривал сигару, бросал снова, прислушивался к стуку экипажей, смотрел в окно; но на улицах все притихло.
— Пропала! — проговорил он наконец, — ну, черт с ней! Авось сама отыщется.
Но беспокойное чувство одолевало Чарова; он велел запрячь коляску, бранился за медленность и, наконец, вскочил в нее и крикнул: «В парк!»
Подъезжая уже к Тверским воротам, он как будто очнулся и потер голову.
— Куда ж меня черт несет?… Пошел к Аносову.
Поэт уже покоился крепким сном. Чаров поднял тревогу у ворот, перебудил весь дом, пробрался в спальню к поэту, крикнул:
— Ска-атина! спит! Вставай, у-у-урод! Испуганный поэт вскочил.
— Что такое? — вскричал он спросонок.
— Вставай, ска-атина! Читай какие-нибудь стихи! Ну!
— Ах, Чаров, это ты?…
Аносов встал, надел халат, а Чаров бросился на его постель, растянулся и — ни слова; а наконец захрапел.
* * *
Часу в девятом утра по улице, на которой красовался дом Чарова, окрашенный модной краской, под цвет глины, ехала закрытая коляска. Не доезжая до дому, коляска остановилась.
— Прощай, мой Георгий! Боже мой, как я тебя люблю!
— Когда ж мы увидимся?
— Я тебя уведомлю.
— Прощай!
— Au revoir![242]
Молодой человек выскочил из коляски, поцеловал свои пальцы, сдунул поцелуй и исчез. Коляска продолжала путь к дому Чарова; из нее вышла Саломея.
Вскоре и Чаров возвратился домой. Он проспал до позднего утра у Аносова.
Как будто после тревожного сна, в котором он ловил за хвост счастье в виде очаровательного существа, и не поймал, Чарову тяжело зевалось.
— Барышня изволила приехать, — сказал ему швейцар.
— Какая барышня?
— Мамзель-то-с, или мадам то есть-с.
— Приехала? — вскричал Чаров, очнувшись от онемения чувств, — где она?
И он вбежал на лестницу, шагая против обыкновения через три ступеньки на четвертую.
— Эрнестина! — раздалось по всему дому. — Эрнестина! где ты была?
— Ах, оставьте меня! Дайте мне отдохнуть от всего, что я перенесла!
— Ну, отдохни, и я отдохну в ногах у тебя!
Чаров бросился на ковер, припал головой к коленям Саломеи.
— Истомился! Всю ночь проискал тебя по парку, — продолжал Чаров, — да скажи же, пожалуйста, где ты пропадала?
— Пропадала!.. Вы не понимаете, какому страму вы меня подвергали!.. Для вас честь женщины ничто!
— Да чем же я виноват, Эрнестина? Я виноват, что какой-то черт наехал дышлом на кабриолет?… Но ведь только маленький испуг… Но каково мне было, когда я хватился тебя, а тебя вдруг нет!.. Ищу, ищу, нет… Где ты была?
— Где? Я бежала оттуда; если бы вы слышали, что говорили про меня без вас в зале хозяева…
— Что?
— Странно! Вы спрашиваете!.. Я не могла перенести этого, я ушла… Я бежала не помня себя, не знаю куда… упала без памяти… подле какого-то дому, на дороге… К счастью, хозяйка дома приняла во мне участие… Иначе бог знает, что бы могло со мной случиться…
— Мерзавец этот Карачеев!..
— Он, кажется, женат… я слышала в зале женские голоса? — спросила Саломея.
— Женат на Брониной. Да! постой! надо приказать, чтоб никого не принимали… Я было с отчаяния поручил звать к себе всех приятелей… А лучше всего поедем сейчас же в деревню… нечего медлить! Правда, Эрнестина? — ты на меня не сердишься?
Саломея подала в знак примирения руку.
Несколько часов спустя у подъезда дома Чарова напрасно звонили и стучали в двери его приятели и знакомцы. Никто не отзывался, Чаров был уже в дороге.
В спокойной дорожной спальне Саломея, закрыв глаза, закинула голову в угол на подушку; а Чаров, приклонясь к ней, рассказывал историю про Петра Григорьевича Бронина.
Саломея безмолвно слушала, но часто содрогалось в ней сердце и судорожный вздох теснил грудь; особенно при рассказе про старшую дочь Бронина.
— Это, говорят, такой был зверь-девка, что ужас; с зубами родилась; у кормилицы отгрызла груди, а у няньки нос… je vous assure, ma ch?re!..[243] Говорят, ma ch?re, что мать ее в беременности испугалась бешеного волка… и это имело влияние на характер дочери. Она, говорят, не могла смотреть на людей без остервенения, так и скалила зубы, чтоб укусить.