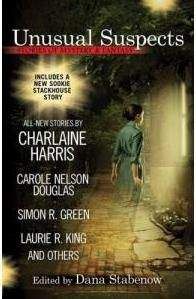— Ах, ma cher, я пришел сюда в надежде вернуть вас, — елейным голосом произнес Антуан. — Но твоего майора нет дома, а именно об этом дельце я и хотел говорить с ним.
— А со мной? — вскинула бровки княгиня. — Со мной вы не хотели бы переговорить об этом дельце!
— Отчего же, можно и с вами, — великодушно согласился Антуан. — Итак: вы не желали бы вернуться в ваш дом? Настоящий? Неужели вам нравится жить в этой… халупе?
— Нет, не нравится, — ответила Александра Аркадьевна. — Но здесь я, по крайней мере, не вижу вас…
— Сударыня, — холодно произнес Антуан. — Покуда вы являетесь моей супругой перед Богом и людьми, вы обязаны…
— Вот именно, покуда, — снова перебила его княгиня. — Посему у меня к вам тоже есть одно дельце: мне нужен развод.
— Развод? — искренне удивился князь. — Я никогда не соглашусь на развод. Узы брака священны.
— Только не для вас, — парировала его дутое благородство княгиня. — Уж мне ли не знать вашего отношения к этим узам.
— Вы заблуждаетесь, сударыня, — наставительным тоном произнес Антуан. — Надеюсь, вы все же умеете различать искренние чувства от les plaisirs de la chair[1].
— И мне следует понимать, что у вас ко мне искренние чувства? — почти рассмеялась Александра Аркадьевна. — Тогда, выходит, вы желаете мне единственно счастия?
— Именно так, — горячо ответил князь.
— В таком случае прошу вашего согласия на развод.
— Нет. Это выше моих сил.
— Более того, — будто не слыша реплик мужа, продолжала Александра Аркадьевна, — я бы желала, чтобы при разводном деле вы взяли вину на себя.
— Никогда, — вскинул красивую голову Голицын и честно посмотрел в глаза Александры Аркадьевны. — Никогда, — повторил он, — от меня вы этого не дождетесь.
— В свою очередь, — опять, будто не расслышав слова Антуана, сказала княгиня, — я обязуюсь выкупить все ваши долговые расписки, залоги, заклады и прочие неуплаты и обязательства. До последней полушки.
— Уж не думаете ли вы купить меня, Александрии? — вознегодовал Голицын. — Так знайте, князь Голицын не продается.
— Но я готова еще и присовокупить к вышесказанному двести тысяч рублей. На ваши последующие долги.
— Триста, — лучисто улыбнулся Антуан.
— Может, вам полмиллиона выложить? — буркнула княгиня. — Двести тысяч.
— Двести пятьдесят, и мы поладим, — ласково произнес Голицын.
— Хорошо. Деньги получите после того, как Синод даст разрешение на расторжение нашего брака. Долги же ваши я начну погашать завтра же. Прощайте.
— Как это прощайте? Мы, можно сказать, видимся в последний раз. А прощальный поцелуй в память о нашей любви?
— Оставьте, князь, вашу сентиментальность для более чувствительных дам.
— Все-таки печально, что мы с вами вынуждены расстаться. Но, верно, такова наша планида. Прошу вас, княгиня, — Голицын вплотную приблизился к ней, — утешьте несчастного сладостным поцелуем, который он потом будет вспоминать всю жизнь.
Рука князя легла на талию Александры Аркадьевны. Она, пытаясь оттолкнуть его, уперлась ладонями в его грудь. Но князь, крепко сжав ее в объятиях, уже склонился над ней. Княгиня успела повернуть голову, и, когда губы Антуана коснулись ее щеки, а затем шеи, она увидела… глаза Тауберга. Она не видела его самого, только одни глаза, в которых ясно читались удивление, боль, негодование. Они и кричали, и плакали, и зло хохотали. Они были бешены и беспомощны. И они постепенно гасли, как гаснет под осенним дождем оставленный без присмотра костерок.
Они стояли на белом снегу друг против друга. Высокий белокурый Тауберг и стройный изящный Голицын. Бледное зимнее солнце тускло поблескивало на лезвиях шпаг, вонзенных в снег, роковых стволах Лепажа, золоте обручального кольца. «Сходитесь!» — раздался возглас, и дуэлянты, как марионетки, управляемые невидимым кукловодом, стали совершать действо тысячи раз до них совершаемое другими и каковое еще тысячи раз будет совершаемо после них. Почти одновременно раздались два выстрела. Тауберг пошатнулся, на груди его стало расплываться страшное багровое пятно. Он тяжело упал навзничь, глаза его стали безмятежными и прозрачно-голубыми, словно вобрали в себя холодную синеву высокого неба.
Александра ясно видела каждую страшную подробность происходившего, но сердце отказывалось верить. «Нет! Этого не может быть! Только не с ним!» Волна черного ужаса охватила ее. «Как я теперь буду жить? Как я смогу жить… без него?!» Она бежала по глубокому снегу, спотыкаясь, падая, поднимаясь вновь, и все никак не могла преодолеть невидимую прозрачную стену тишины, окружавшую неподвижное тело Тауберга. Сотрясаясь в мучительных рыданиях, она почти доползла до него, схватила за плечи, пытаясь приподнять. «Иван, Ваня, Ванечка…» — все повторяла она с тоской. Его веки дрогнули, и, будто с трудом что-то вспоминая, он перевел на нее взгляд, разлепил сухие губы: «Александра… не плачь. Это всего лишь шутка. Мис-ти-фи-кация… Дурной сон…»
— …дурной сон. Успокойся, голубка моя, это всего лишь дурной сон, — ворковала Ненилла, прижимая к своей необъятной груди судорожно всхлипывающую хозяйку.
— Ненилла, Боже мой, Ненилла! — почти в бреду прошептала Александра. — Он погиб, ты понимаешь, его больше нет!
— Да что за страсти вам снятся! О чем вы?
— Да Иван, Иван Федорович! — Княгиня отстранилась и с тревогой посмотрела на Нениллу. — Что с ним?
— А что с ним? — удивленно переспросила служанка. — Вечор вылетел он из вашего будуара, да и к себе. А нонче вроде не выходили еще.
Александра откинулась на подушки, и тихие слезы облегчения полились из-под прикрытых век.
— Да что, матушка моя, так убиваться-то? — проворчала Ненилла. — Девичьи сны, что бабьи сказки, не все истина. Хватит из-за морока ночного слезы лить.
Княгиня постепенно затихла, открыла глаза, потом решительно села на постели, опустив ноги на пушистый ковер.
— Ты права, Нениллушка, кликни горничных умываться, одеваться. А сама отправляйся к Ивану Федоровичу и передай, что я прошу его принять меня через час. Что хочешь говори, как хочешь уговаривай, но чтоб отказа не было.
Ненилла, как пушечное ядро, вылетела из комнаты и понеслась по коридору, отдавая распоряжения и приводя в ажитацию полусонных насельников дома.
Александра не знала, как ей вести себя с Таубергом. Она чувствовала себя виноватой.
Хотя была ли в украденном поцелуе ее вина? Ею овладела смутная тревога, причину которой она не могла себе объяснить. И этот страшный сон… В этом сне она мучительно и страстно любила человека, с которым предстояло увидеться через три четверти часа и, возможно, прочесть в его глазах приговор. Вчера эти глаза пригвоздили ее к позорному столбу. Встретившись с ними, она окаменела и почти не обратила внимания на то, что Антуан становился все более настойчивым. Опомнилась, лишь когда Тауберг стремительно шагнул назад и громыхнул дверью так, что зазвенели окна и скляночки на туалетном столике.