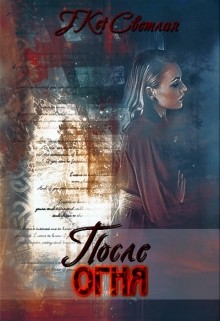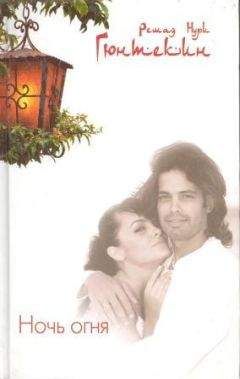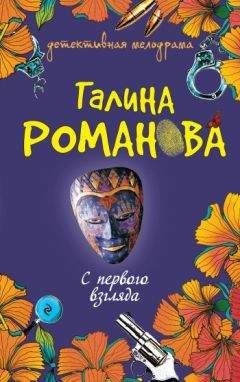Теперь он ясно видел, как эти двое подчас замирают, глядя друг на друга. Мимолетно. Не присмотришься — не заметишь. Но Лемман всегда считал себя довольно внимательным. Как можно объяснить то, что продукты из армейского пайка стали появляться на полках с завидной регулярностью? Или то, что он однажды застал Грету, относившую в комнату лейтенанта постельное белье, самое красивое в доме, с кружевной прошвой? Или то, что Уилсон починил поломанное кресло с чердака и перетащил его в гостиную к окну, чтобы во время шитья Грета не ютилась на стуле? Или то, что Грета вдруг стала напевать себе что-то тихонько под нос, когда возилась по хозяйству?
Потом произошло уж вовсе невероятное. Однажды она принесла два старых платья своей бабки и села их распарывать. При этом вид у нее был весьма вдохновленный.
— Что это будет? — осторожно поинтересовался Рихард.
— Платье. Если получится.
— Аааа… — протянул он и пошел на кухню, курить. Платье — это слишком серьезно. Платье — это уже не просто повод для беспокойства, это огромный плакат с красными буквами, предназначенный мужчине, гласящий: «Может быть…»
Однажды старик проснулся среди ночи от того, что во рту пересохло. Потянулся к графину на тумбочке и замер. Какой-то странный, едва различимый звук заставил его прислушаться. То ли мышиный писк, то ли кому-то среди ночи вздумалось покататься на несмазанных качелях… Какие еще качели в конце зимы? И вдруг понял — это кровать поскрипывает на втором этаже. Это, черт ее подери, кровать поскрипывает! Мерно, в каком-то одном ритме… ритме, известном всем мужчинам и женщинам всей земли. Лемман расплылся в улыбке, откинулся на подушку и легко вздохнул. Вот и ответ… Он торопливо укрылся одеялом с головой. И вскоре спокойно и крепко уснул.
*****
— Представляешь, хочу грушу, — Грета тихонько рассмеялась. — Никогда не любила груши. А сейчас, кажется, съела бы… Такую сочную, знаешь, чтоб по рукам стекало…
На узкой кровати Ноэля они не могли быть иначе, как тесно прижавшись друг к другу. Ей нравилось приходить в его комнату. Открывать для себя новые ощущения. Его рука на ее груди не давала ровно дышать. Или нога ее затекала под тяжестью его ноги. Грета редко засыпала в такие ночи, словно боялась что-то упустить, что-то важное, значимое, что придаст ей сил пережить еще один день.
Теперь она смотрела в черные провалы его глаз, зеленый цвет которых хорошо помнила. И чтобы видеть их, она не нуждалась в свете.
— Ты был в детстве, наверное, ужасно смешной!
— Я был гадкий, — лениво прошептал Ноэль, касаясь губами ее волос. — Обрывал груши, такие, о которых ты говоришь, в чужом саду, когда ездили за город. Заливал клеем туфли актрис, бывавших в доме. Выпустил мамину канарейку. Отчим ужасно злился…
— В твоем доме бывали актрисы? — с любопытством спросила Грета.
Ноэль чуть повернулся к ней и провел губами по ее шее, вдыхая запах кожи.
— Да. Я рос за кулисами. Мама — актриса, отчим — режиссер. Ужасный зануда, старше ее лет на двадцать. Он отправил меня в Бэдфорд, когда я застал его с какой-то девчонкой из балета. Я выскочил из шкафа в самый неподходящий момент с простыней на голове и с воплем: «Я привидение!»
Грета выводила пальцем узоры на его груди, пока слушала. Представив себе эту сцену, она прыснула, уткнувшись в его плечо. И все еще посмеиваясь, проговорила:
— Первый раз общаюсь с привидением.
— Мистер Уилсон тоже оценил, — рассмеялся Ноэль. — Настолько, что избегал забирать меня домой на каникулы. Из этой тюрьмы я вырвался только к пятнадцати годам, когда мама вышла замуж за отца.
Не находя слов, Грета чуть приподнялась, долго удивленно смотрела на Ноэля и, наконец, медленно проговорила:
— Я запуталась.
— Я тоже, — хохотнул он, с обожанием глядя в ее нежное лицо, на которое теперь упал яркий свет уличного фонаря. — И до сих пор не распутался. Но так уже вышло. Мама вышла замуж за отца, когда я был уже довольно взрослым мальчиком, весьма заинтересованным в том, что девочки прячут под юбками.
— Не думаю, что им удавалось это спрятать от тебя, — Грета снова примостила голову на подушке. — Мне тоже не удалось, — пробормотала она и нахмурилась: вышло серьезнее, чем ей бы хотелось.
Он перекатился на нее, опершись локтями на матрац, чтобы не придавить женщину под собой. И их губы теперь почти соприкасались. Он слышал, как бьется в ней сердце. Казалось, еще немного, и услышит, как бьются в ней мысли.
— Я же сказал, что был гадким, — шепнул Ноэль. — Но я исправляюсь. А ты? Ты была хорошей? Мне кажется, ты носила платьица с рюшами и ленточки в косах. Это тебе очень подходило. У тебя и теперь бывает такой чистоплюйский вид, что хочется взъерошить.
— Я — чистоплюйка. Другой не буду, — она коснулась губами его губ. — Тебе не нравится?
— Господи, да я с ума схожу от твоего чистоплюйства, твоей благопристойности, твоего благоразумия и от того, как ты смотришь на меня вечерами, когда ждешь ночи.
Грета улыбнулась, довольно сощурившись, и пробормотала:
— Скоро начнет светать. Ты не спал совсем.
— Ты тоже, — он убрал с ее лица несколько прядок оказавшихся возле рта волос и нежно-нежно, легко-легко стал целовать губы, нос, глаза, лоб, а потом остановился и шепнул: — Будешь спать?
— Нет! — проговорила в губы и обхватила его ногами, запоздало удивившись себе.
12
Среди мелких хлопот и частых бессонных ночей незаметно наступила настоящая весна. На деревьях появилась зелень, каштан во дворе по многолетней привычке растил свечки между лапастых листьев, в некоторых дворах смело царили первоцветы.
Проснувшись однажды солнечным утром, Грета встала с намерением вымыть в доме окна. Что бы ни происходило в твоей жизни — окна должны быть чистые. В погребок ей надо было прийти после обеда, а за полдня она успеет убраться в комнатах.
Прихватив ведро и тряпки, она решила начать с комнаты Ноэля.
Губы сами растянулись в улыбку. Она улыбалась своим воспоминаниям, ночным разговорам, запаху табака, который, несмотря на все ухищрения, все равно чувствовался в комнате. Грета теперь часто улыбалась. Ноэлю. Рихарду. Она знала, что старик посмеивается над ними, и, замечая его хитрый взгляд, обязательно смущенно целовала его. Если бы не Рихард, она никогда бы не оказалась в Констанце и никогда бы не встретила лейтенанта Уилсона. И не была бы так счастлива, как теперь.
Грета подошла к окну, собрала с подоконника какие-то вещи — разную мелочь, которая накапливается словно сама собой, даже если твои вещи умещаются в единственный чемодан. Из рук ее выпал футляр. Плотный, обтянутый коричневой кожей, немного потрепанный, но, видимо, следовавший за своим хозяином уже очень давно и, конечно, повсюду. Он звонко стукнулся о пол, раскрылся от удара, и из него посыпались безделицы, которые совсем не нужны, но жалко выбросить. Грета улыбнулась своей неловкости, оглянулась на дверь, подумав, что вот-вот из уборной выйдет Ноэль, собиравшийся в комендатуру. Торопливо наклонилась и стала собирать выкатившиеся несколько монет, запонку, медальон…
Быстрым взглядом осмотрела медальон. Украшения с характером лейтенанта никак не вязались. Улль… обычный сувенир, какие сотнями продают на ярмарках. Но у француза? Грета перевернула медальон. Fridrich… второго такого быть не может.
Вздрогнула.
Гадкая, тошная мысль больно резанула внутри.
Ноэль убил ее мужа.
Эта мысль забилась, будто бы вместо сердца. И Грета так и осталась стоять, не в силах сдвинуться с места. Куда и зачем? Неважно…
Он застал ее одну в своей комнате, когда выходил из ванной. То, что она там, он понял еще в коридоре — дверь была приоткрыта. Улыбнулся тому, что так вовремя из дома ушел Рихард, а до приезда служебного автомобиля еще целых полчаса, за которые, увы, так мало можно успеть. Так мало и одновременно так много. Ноэль перекинул полотенце через шею и вошел в комнату.
Она стояла спиной к нему у окна. И почему-то сейчас показалась ему совсем маленькой, совсем хрупкой. Такую хотелось прижать к себе и никуда никогда не отпускать. Браки с немками запрещены… Пусть. Это ведь не навсегда.