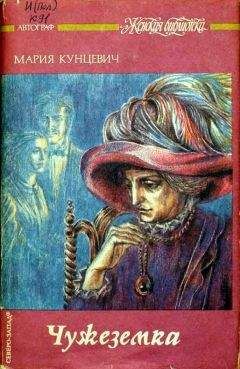Я больше не могла этого вынести. Зажгла свет, но они не шелохнулись. Руки у них теперь были бессильно опущены, глаза полузакрыты, на лицах усмешка безумия.
Время шло. Я положила Михалу ладонь на плечо: «Автобус в Труро уходит в одиннадцать».
Он вздрогнул: «Что? В Труро? Слишком поздно».
Снова налил в рюмки вино.
Я же вопреки ему сняла пластинку, опустила крышку патефона, всячески подчеркивая, что пора расстаться.
Тогда Кэтлин встала и подошла к Михалу. У нее был вид сомнамбулы: невидящие глаза, полуоткрытый рот. Подойдя к нему, она обняла его и поцеловала в склоненную голову. Потом, не сказав ни слова, взглянула на меня с обреченностью, раздирающей душу.
Мы молча допили вино. Последним опустил свою рюмку Михал. Резким движением отставил рюмку, в разные стороны разлетелись осколки. Он встал, взял Кэтлин за руку: «Пойдем».
Меня удивило, что она не протягивает мне руку на прощание, не благодарит, не говорит «до свиданья».
Я растерянно глядела, как они вошли в дом, ровным шагом прошли через холл. Хлопнула дверь. Но не входная, а в комнату Михала.
На другой день я с самого утра сновала по дому, с испугом поглядывая на дверь, за которой все еще происходило это. Много позже, когда я уже готовила на кухне завтрак, я услышала в холле какой-то шорох и тут возле ступенек у входа на мгновенье увидела Кэтлин, ее узкие прямые плечи. Михал не провожал ее.
Через минуту он появился на кухне, с приглаженными мокрой щеткой волосами. Подал мне стоявшие у порога бутылки с молоком. Его «доброе утро» прозвучало буднично.
Всю ночь я сочиняла в уме речь, обращенную к сыну, к его совести и здравому смыслу. А теперь Михал поглощал хлеб, кусок за куском, а мне словно судорога перехватила горло.
— Ты женишься? — наконец еле выговорила я.
Он отодвинул чашку и согнулся, словно от боли. Проглотил хлеб и, глядя куда-то в стену, сказал:
— Мама… Она замужем. — Помолчал минуту и добавил: — Теперь она миссис Брэдли… Уже два месяца.
Весь этот день Михал где-то пропадал. Едва он скрылся за калиткой, как я с чувством невольного свидетеля, которого почему-то тянет на место преступления, вошла в его комнату. Огляделась по сторонам. Следов не было. Кровать застелена, окно закрыто. Никаких следов крушения, ни единого признака недавней бури. Только на столе, между гитарой и приемником, лежал большой, похожий на лилию цветок с лепестками, уже отмеченными смертью. Я не тронула его: пусть умирает.
Михал заглянул в мою комнату только в сумерки. Это не был Михал, сын Петра, много раз побывавший в аду и теперь ни от кого не принимавший сочувствия. Теперь это был мой собственный сын, маленький мальчик, который когда-то столько раз приходил ко мне, ища прибежища от насмешек товарищей, от глухой тишины ночи, от холодности отца. Маска спала. Я увидела лицо ребенка, заблудившегося в мире взрослых.
— Мама, — жалобно сказал он, — Брэдли не должен этого знать. Во всем виновата пластинка. Зачем ты попресила Кэтлин остаться? Заставила нас слушать? Мы ни о чем таком не думали. Брэдли — великий человек, до вчерашнего дня мы с Кэтлин ни разу не поцеловались, она ночью плакала и говорила про Брэдли, что ни один человек не сделал ей столько добра.
Несколько дней он почти не выходил из своей комнаты, запирал дверь на ключ, и я слышала, как он часами читал вслух математические формулы и разделы из истории искусств. А потом срывался с места и мчался на пляж с книжкой в руках, и сидел там, словно окаменев, уставившись в пространство между водой и небом. За столом он делал вид, что ест, но через два дня я заметила, что брюки на нем едва держатся. Каждый раз, как только раздавался телефонный звонок, он вскакивал, но тут же снова садился и смотрел на меня умоляюще. Лишь на третий день, под вечер, я наконец могла сказать: «Тебя».
Никогда не забуду, с каким трудом он, измученный ожиданием, встал со стула и поплелся к телефону. Двери оставались открытыми, атмосфера тайны исчезла. Разговор был тихий, с большими паузами, я чувствовала, что молчание для обеих сторон более значительно, чем слова. Разговор окончился — Михал осторожно положил трубку, словно она была живая. Он вернулся на прежнее место, сел и задумался.
— Мама, — сказал он немного погодя, — ты должна позвонить Брэдли, сказать, что во вторник тебе пришлось попросить Кэтлин у нас переночевать, скажи, что ты была больна, а я не в счет. Она ему говорит, что звонила, но только он не слышал звонка… Наверное, был в саду… Он ей верит, а ты подтверди. Зачем терзать старика?
На другое утро я позвонила Брэдли — голос у меня был больной. Так я стала сообщницей предателей.
Профессор и в самом деле поверил. Поверил, потому что, так же как король Марк, хотел верить. Решившись на брак с Кэтлин, он зашел дальше, чем этого требовал план «спасения человека». Дальше, чем хотел Михал. Но дальше ли, чем хотела Кэтлин? Мне хорошо была знакома эта трясина сплетенных воедино женских надежд и страхов, со светящимся в конце пути огоньком надежды на happy end[16]. Видно, Кэтлин, сама того не ведая, шла от одной уступки к другой, как маленькая девочка сквозь темные комнаты, не задумываясь над тем, куда идет. И в конце этого пути оказалось весьма солидное учреждение, оформившее ее брак с семидесятилетним господином, знаменитым ученым и богатым человеком.
Наверняка, пока она шла ко всему этому, временами ее охватывала тоска и беспокойство. И тогда она говорила себе: «Может, завтра мир перестанет существовать? Может, я умру? А может, тетка оставит на мое имя наследство и мы с Михалом уплывем в страну орхидей и колибри еще до того, как профессор успеет на мне жениться? А может, Михал злой и бездушный?»
Брэдли сказал мне по телефону: «Молодежь обожает секреты, она не выносит, когда ей заглядывают в карты. Вот, например, ваш мальчик… Зачем ему понадобилось от меня скрывать, что он ваш сын? Зачем он сочинил какую-то сказку про друзей из Пенсалоса? — Профессор откашлялся. — В нем еще много детского… И Кэтлин точно такая же. Не удивительно, что они понимают друг друга, как брат с сестрой. Я ничего не имею против этого, я обожаю Михала. Для меня важно одно — знать, что ничего плохого не случилось».
Он рассмеялся. «Я, наверное, слишком мнителен. Я сам виноват, так крепко заснул, что не услышал звонка. Очень рад, что медицинские таланты Кэтлин нашли столь достойное применение. И вообще, мне хотелось бы, чтобы вы чувствовали к ней ту же симпатию, какую я питаю к вашему сыну». При этих словах у профессора участилось дыхание.
— Ну что же, — закончил он с нотками превосходства в голосе. — Вам нужно беречься! Подумать о своих почках.