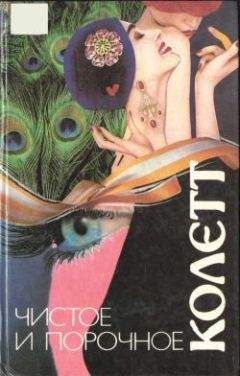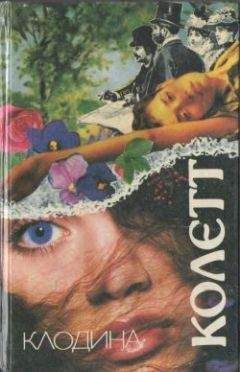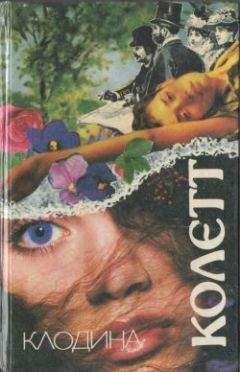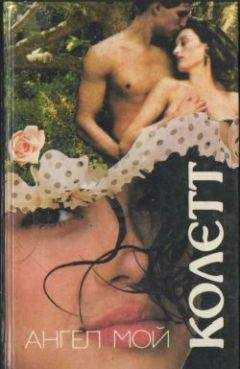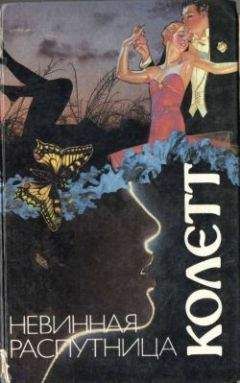– Нет, – ответил старший, – не прикончили. Сам не знаю почему…
Развеселившись, он запел свои любимые импровизированные куплеты – то были уродливые плоды союза рифмы и ритма, сложенные в часы, когда взыскующий дух, устав от работы, вторгается, не зная правил, в царство слов, освобождая их от смысла. Мой тонкий голос вторил эхом – теперь-то я одна могу утверждать, да ещё в ритме польки, что
Пилюля бензонафталина
Снимает боли в голове:
Пилюля бензонафталина —
И не страшна вам и ангина!
Рискованное утверждение, идущее вразрез со всеми привычными терапевтическими правилами, но я предпочитала если не мелодию, то текст следующей канцоны:
Облегчительный бальзам
Я, аптекарь, вам продам.
Только выпьете его —
Облегчитесь от всего…
Тем вечером мой возбуждённый брат сложил новую версию «Серенады» Северо Торелли:
Прости, красотка.
Не убит Маттео.
Пусть, луноликий.
Он ещё споёт нам…
Младший танцевал возле него, сияющий, как Лорензаччо перед своим первым убийством. Он остановился и, любезно улыбаясь, сообщил мне:
– Мы прикончим его в другой раз.
Моя сводная сестра, которая была старше нас всех, – чужая в семье, дурнушка с привлекательной некрасивостью тибетских глаз – вышла замуж как раз тогда, когда ей пора было уже, как говорят у нас, надевать убор святой Катерины становиться старой девой. И если мать не осмелилась помешать этому нелепому браку, то во всяком случае не стеснялась говорить всё, что думает по этому поводу. Замужество моей сестры обсуждалось на всех улицах, от Рош-а-ля-Жербод до Бель-Эр-о-Гранжё.
– Жюльетта выходит замуж? – спрашивали мать. – Ого-го. Вот счастье-то привалило!
– Несчастье, – уточняла Сидо.
Находились такие, что смели язвить:
– Наконец-то Жюльетта нашла мужа! Вот нечаянность! Надо же…
– Да не надо бы… – воинственно огрызалась Сидо. – Но кто будет удерживать девушку двадцати пяти лет?
– Ну, так кто же её избранник?
– А! Боже мой, да первый подвернувшийся кобель…
В глубине души ей было жалко видеть существование своей одинокой дочери, которое наполнялось только мечтаниями и необузданным чтением. Братья же оценивали «счастье» с высоты своей собственной точки зрения. Год медицинских штудий в Париже так и не обтесал старшего – его, высокого и прекрасного, по-прежнему раздражали взгляды женщин, которые не были для него желанны. Слова «брачный кортеж», «вечерний фрак», «званый обед» и «шествие» падали на обоих дикарей каплями расплавленной смолы…
– Ноги моей не будет на свадьбе! – артачился младший, негодующе светлея глазами, как всегда взъерошенный. – Не пойду ни с кем под ручку! Уберите эту одежду с хвостом!
– Твой долг – быть хорошим братцем, – убеждала его мать.
– Нечего ей выходить замуж! Да кого она выбрала!.. От этого типа несёт вермутом! Она всю жизнь отлично без нас обходилась, может без нас и замуж выйти!..
Наш красавец старший был менее словоохотлив. Но мы видели его лицо, словно примеривающееся, как бы одолеть и эту стену, его взгляд, прикидывающий размеры трудностей. Это были тяжёлые дни, полные взаимных упрёков, лишившие покоя моего деликатного отца, который избегал благоухавшего непрошеного жениха. Однако вскоре оба мальчика как будто смирились. Они даже выдвинули идею самим исполнить музыкальную мессу, и, обрадовавшись, Сидо на несколько часов забыла про своего «кобеля»-зятя.
Наше пианино «Аушер» поехало в церковь и смешало красивый, немного суховатый звон с блеянием фисгармонии. Дикари, запершись в пустой церкви, репетировали сюиту из «Арлезианки», какого-то там Страделлу, а также Сен-Санса, выбранного специально для свадебного торжества…
Полюбовавшись на них, когда они удалялись с клавирами под мышкой, мать поздно спохватилась, что, занятые игрой, они не смогут быть на свадьбе подле сестры. Они играли, я это помню, как маленькие музыкальные эльфы, и осветили музыкой этой сельской мессы небогатую церковь с развалившейся колокольней. Я вышагивала, гордая тем, что мне уже одиннадцать, своими волосами маленькой Евы и розовым платьем, довольная всем на свете, кроме… когда я увидела сестру, дрожащую от нервного истощения, какую-то всю сжавшуюся под шёлком и белым тюлем, чьи изъяны так неудачно подчеркнул белый тюлевый убор, бледную, с такой покорностью поднимавшую своеобразное монгольское лицо к незнакомому мужчине, я едва не умерла от стыда…
Скрипки бала завершили свадебный пир, и, едва их заслышав, оба мальчика вздрогнули, как необъезженные лошади. Младший, успевший немного выпить, остался. Но старший, обессиленный, исчез. Чтобы попасть в наш сад, он перепрыгнул через стену со стороны Виноградной улицы, долго бродил вокруг запертого дома, наконец разбил стекло, и мать нашла его уже спящим, когда вернулась усталая и грустная, передав растерянную, трепещущую дочь в руки мужа.
Позже она рассказывала мне об этом пыльном летнем рассвете, о пустом и словно обворованном доме, о своей безрадостной усталости, о платье, расшитом спереди бисером, о беспокойных кошках, которых выманивали в сад темнота и голос моей матери. Она рассказывала, что нашла своего старшего спящим, съёжившимся в комок, с полуоткрытым свежим ртом и закрытыми глазами, и на нём была печать сурового и дикого целомудрия…
– Подумать только, чтобы побыть одному, подальше от потных гостей, чтобы уснуть под ласковым ночным ветерком, он разбил форточку! Да где вы видели ещё такое умное дитя?
Сколько раз я видела, как этот умница привычным прыжком выскакивает в окно, заслышав неожиданный звон дверного колокольчика.
Поседевший, рано состарившийся от трудов, он снова обретает юношескую гибкость, спрыгивая в сад, и девочки улыбаются, завидев его. Свои приступы мизантропии он сумел побороть, но они исполосовали его лицо морщинами. И может быть, он всю жизнь чувствовал себя заложником своего огороженного дворика, становившегося всё теснее, пока он перебирал в памяти череду перемен, вырвавших его из детской кровати, где он спал полуобнажённый, целомудренный и в сладострастии своего одиночества.