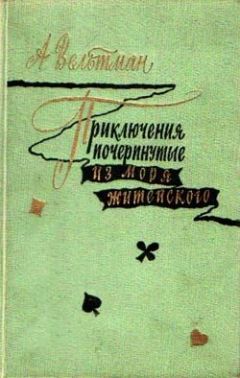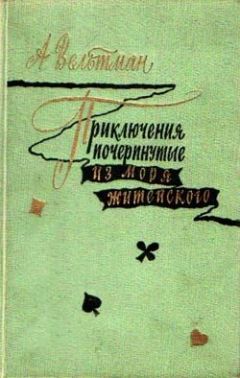— Так завтра ввечеру ко мне, мосье de Volobouge! — проговорил Чаров, вынимая все наличные деньги и ломбардный билет. — Завтра я вам доплачу остальные сто…
— Сочтемся! — отвечал Дмитрицкий, — за эти выигранные двести с чем-то привезу к вам на проигрыш пятьсот с мазом — отвечаете?
— Отвечаю, — крикнул Чаров, но не обычным звонким голосом.
— Ты меня в ужас приводишь! — сказал Рамирский, когда Чаров уехал.
— Э, полно говорить об этих ужасах, — отвечал Дмитрицкий, — все это пустое дело, а не ужас.
— Это не хорошо, Дмитрицкий!
— Знаю, знаю, я очень хорошо знаю, что это ие хорошо; да хуже разорит его Саломея: я дам ему отыграться; а от нее он не отыграется. Лучше поговорим о Нильской. Понимаешь теперь, что он больше ничего, как чеснок; а ты как железо отпал от магнита. Теперь, кажется, тебе нечего его бояться?
— Нет, это уж неисправимо.
— Почему знать, чего не знаешь; однако же пора спать! прощай!
Но Рамирскому было не до сна. Самообвинение хуже всякой казни.
Только с рассветом повеяли на истомленного Рамирского какие-то неопределенные, бессвязные, но успокоительные мысли; он заснул и встал очень поздно.
— Узнай, дома господин Волобуж? — спросил он прежде всего у человека.
— Только сию минуту уехали, — отвечал человек, — и приказали вам сказать, чтоб подождали его, что он сейчас будет назад.
Рамирский заходил беспокойно по комнате; присутствие человека, который стоял с рукомойником в руках, его тяготило.
— Что ж чаю? — сказал он.
— Да еще не умывались, сударь,
— Да! хорошо, давай умываться.
И Рамирский, умыв только одни руки, схватил полотенце, начал утирать лицо и приказал подавать чай.
Между тем Дмитрицкий сидел уже в уютной рабочей комнате Нильской, где был и письменный столик, и маленькая библиотека, и пяльцы, и ручные ее работы.
— А! это поэзия, — сказал он, сев подле стола и взглянув на тетрадку с заглавием: «Сочинения в стихах и прозе M. H.» — Браво, это ваши?
— Совсем нет, не мои… Будто вы умеете читать по-русски? — спросила Нильская, покраснев немножко за произнесенную ложь.
— Я учусь, — отвечал Дмитрицкий, — и уже хорошо понимаю. Ну, признайтесь, ваши? Тут выставлено: М. и Н.
— Может быть.
— Знаете ли что: хотите, я переведу что-нибудь на венгерский язык? Право, можно взглянуть?
— Хорошо; но только это будет между нами: я пишу для себя и не хочу, чтоб кто-нибудь знал, что я пишу.
Дмитрицкий взял тетрадку, развернул.
— Море? Браво! Какие вы охотницы до моря! Отчего это? Нильская вспыхнула.
— Так, мне нравится оно, — отвечала она, вздохнув. — Переведите вот эту статью.
— Хорошо. Как это грациозно: «Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него…» Как бы мне хотелось знать, к кому эти стихи? к Р.: «Любила я, он не любил…» Это для меня очень любопытно знать.
— Это?… Пожалуйста, их не читайте: они скверно написаны.
— Не хотите, чтоб я читал? Ну, не буду читать, — сказал Дмитрицкий, положив тетрадку в карман. — Теперь позвольте мне сказать вам слово об одном серьезном деле.
— Что такое?
— По вашей наружности, по вашим словам, по всему, я знаю, что ваша судьба отравлена каким-то горем. Правда?
Нильская вспыхнула, вздохнула, опустила глаза.
— Для чего этот вопрос?
— Вот для чего: позвольте мне примирить вас с вашей судьбой… Пожалуйста, отвечайте просто: угодно вам это пли нет?
— Странный вопрос!.. Вы меня так смутили им… я не могу вдруг отвечать…
— Нет, отвечайте теперь же: да или нет? Скажите, могу я примирить вас с судьбой или нет?
Нильская склонила голову на руку и задумалась. Нерешительность взволновала ее.
— Вы сами поняли, что жизнь моя отравлена горем… Нильская остановилась.
— Продолжайте: откровенность лучше всего.
— Я, может быть, не в состоянии уже любить сама, а в состоянии еще требовать, чтоб меня любили… И эта любовь будет для меня успокоительный компресс на сердце… и больше ничего.
— Это значит, что вы любили первою и последнею любовью. Я это понимаю: у меня есть друг, которого судьба ни дать ни взять ваша судьба. Он также страстно любил, почти уверен был во взаимности; но есть люди, которых черт всегда подсунет, чтоб разделить союз истинной любви; подобный человек привязался к магниту, и мой друг отпал от него, как железо.
Нильская вздохнула.
— Скажите мне, виноват ли он в том, что нечистый дух имеет силу расторгать душевные связи истинной любви?
— О, боже мой, нет! — проговорила Нильская с глубоким вздохом, припоминая свою неосторожность и поступок Чарова, — я знаю, что нет!.. Это несчастие!
— Ваша судьба не похожа ли на судьбу моего друга? Вы магнит, но у вашего сердца уже нет пищи… и оно обратится в простой бессильный камень… Как бы я желал воскресить вас для взаимной любви!
— Это невозможно!.. Благодарю вас!.. Оставьте об этом говорить… по крайней мере теперь.
«По крайней мере теперь! — повторил Дмитрицкий про себя, смотря на Нильскую, — это что-то не сходится с „это невозможно“. Бедные женщины: им хоть какие-нибудь нужны оковы, если нет оков любви!..» — Позвольте мне представить вам моего друга. Это достойный человек; вы его полюбите: его ум, образованность, сходство судьбы доставит вам приятную беседу с ним.
— Я очень рада, — сказала Нильская, — позвольте узнать его фамилию?
— Позвольте мне привести его сейчас же, потому что… Ну, словом, откладывать не для чего, — сказал Дмитрицкий и выбежал из кабинета.
Через десять минут он стоял уже в дверях номера, занимаемого Рамирским, и крикнул:
— Дома?
— Дома. Для чего ты просил меня подождать?
— Дело, важное дело; сейчас только решено, и я везу тебя к невесте.
— Это что такое?
— Все-таки то же; поедем, одевайся, нас ждут.
— Поздравляю; да для чего же мне-то?
— Да так, нужно в чем-то расписаться или свидетельствовать мою руку, право, не знаю, ну, словом, необходимо!.. я сказал, что тебя привезу… Одевайся!
— Ты мне ни слова не сказал о своем намерении… Кто такая? — спросил Рамирский.
— Премиленькое, преочаровательное, препоэтическое существо!.. вот и все!
— Послушай, — сказал Рамирский, задумавшись, — ты не знаешь, давно ли Нильская приехала из Петербурга?
— Давно ли? Да тебе это для каких соображений? Вот никак не могу понять!
— Так.
— Аа! так; это дело другое; следовательно, тебе это нужно непременно знать? Я непременно спрошу у нее.