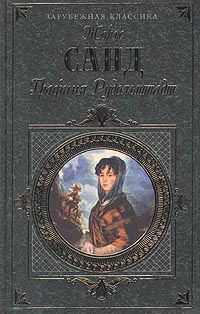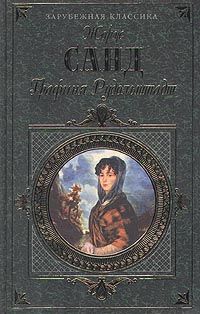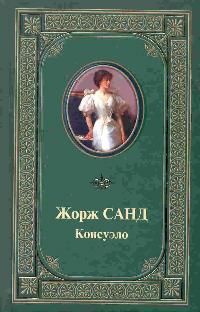В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил – как композитор, как писатель и как государственный деятель. Он всегда выказывал много внимания Порпоре, который и попросил Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «I cieli immensi narrano», который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого глубокого захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолетто, она помнила только о Боге и о Марчелло. В композиторе она видела сейчас посредника между собою и тем сияющим небом, славу которого готовилась воспеть. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!
I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria;
Il firmamento lucido,
All’ universe annunzia,
Quanto sieno, mirabili
Delia sua destra le opere[15].
Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего выдающимся умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:
– Клянусь Богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!
У Андзолетто подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока, наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью.
Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока священники читали псалмы, Консуэло спустилась в церковь, так как Марчелло пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так взволнован, что едва мог говорить.
– Дочь моя, – начал он прерывающимся голосом, – прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куццони, всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один смертный!
Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как бы намереваясь встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца. Но, поднимаясь, она кинула на Андзолетто взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!».
В течение остальной части богослужения Консуэло проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел на Консуэло, и Андзолетто прекрасно понимал, что говорит его взгляд.
По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов – любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавец Андзолетто в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию: у одних – чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у других – чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта нищенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Гнев исказил ее лицо, она стала такой некрасивой, какою никогда не была Консуэло и какою стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолетто, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограниченна, а Андзолетто слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.