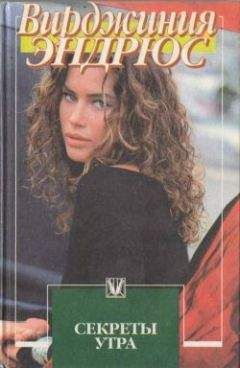– Вы правы, – коротко, но решительно сказал он.
Глубокий вздох облегчения вырвался из груди Зигварта, и он воскликнул со страстной радостью:
– Благодарю вас! Вы не можете себе представить, что вы мне возвратили этим словом! Наконец-то нашелся человек, поверивший в меня, снявший с меня позорное подозрение. Оно тяготело надо мной, как проклятие, цепями приковало меня к земле. Я боролся до последнего, чтобы сохранить мужество и силу для будущего… но… уже готов был сдаться.
Этот бурный взрыв чувств свидетельствовал, сколько выстрадал этот человек за последние годы. Американец не спускал с него глаз и покачивал головой. Он знал мир и людей, как их знают немногие, и чувствовал, что перед ним незаурядная личность.
– Но я ведь высказал свое личное мнение, – серьезно проговорил он, – а доказательств у нас нет никаких?
– Ни единого. Уезжая в Италию, я оставил все свои чертежи у своего учителя, вернувшись же в Берлин, увидел уже почти оконченную виллу коммерции советника Берндта. Она точь-в-точь походила на составленный мной проект, но мне сказали, что это создано Гунтрамом. Тогда я заметил, что чертежи этого проекта исчезли из моей папки. Я поспешил к Гунтраму. Он сначала разыграл крайнее удивление, делая вид, что не понимает меня, а потом прикинулся обиженным. Тогда я не выдержал и прямо в лицо обвинил его в обмане. Я хотел заставить его признаться, но он поднял крик, позвал на помощь, и прибежавшие слуги стали свидетелями разыгравшейся сцены.
– Вы поступили неразумно, – произнес американец, – вы дали ему в руки оружие.
– Которое он сумел пустить в дело. Я не мог поверить, что моя игра с самого начала была уже проиграна, и отчаянно боролся за свои права. Разумеется, поверили всеми признанному художнику, а не мне. Моих объяснений не слушали, все двери передо мной закрывались. В конце концов я вынужден был сдаться и… перебрался в Эберсгофен.
– Вы действовали неправильно. Один вы были бессильны против такого влиятельного человека, как Гунтрам. В таких случаях обращаются к общественному мнению, поднимают шум в прессе. Вы хотели идти напролом, собирались прошибить лбом стену, но ведь стены обычно остаются целыми, голову же можно расшибить в кровь. Я боюсь, что ваше дело проиграно. Только тогда вы можете показать то, что теперь лежит в ваших папках и служит доказательством вашего таланта, когда все эти проекты станут реальностью. Приезжайте ко мне, и я дам вам возможность осуществить эту задачу.
– К вам? В Америку?
– Да, там большое поле деятельности для людей, подобных вам. То общество, которое я возглавляю, теперь строит город на новой западной железнодорожной линии, нашему Хейзлтону предстоит великое будущее. Там уже есть гостиницы, учебные заведения, теперь надо строить церкви, ратуши, театры, в Америке все это окупается гораздо быстрее, чем в Европе.
Зигварт слушал как во сне. В последнее время он уже не раз подумывал бросить все и за морем начать новую жизнь, но у него не было средств. Неожиданное предложение открывало перед ним блестящую перспективу, но он продолжал стоять, молча глядя в землю.
– Ну? – удивленно спросил Морленд.
– Простите, но я так поражен! Ваше предложение так неожиданно…
– И оказалось не особенно желанным, как я вижу?
– Нет-нет, вы меня не поняли. Еще во время нашей первой встречи я не скрыл от вас, что задыхаюсь в этой тесноте, в этих невозможных условиях. Вы предлагаете будущее, большое дело, но… в чужой стране.
– Так вот в чем загвоздка! Опять на первом плане милая Германия! Да разве здесь вы не набили шишек? С вами так дурно обошлись здесь, что вы должны покинуть ее без сожаления!
Герман явно боролся с собой и наконец вполголоса проговорил:
– Я прекрасно понимаю, что вы мне даете, предлагая подобную работу, но прошу вас, дайте мне подумать до вашего отъезда.
– У вас есть что-то на примете в Германии?
– Да, мистер Морленд, но я не могу сказать, что именно. Это только мечта, может быть, только призрак, но в настоящую минуту я не могу себя связывать.
– Вам еще многому надо научиться в жизни, мистер Зигварт, – серьезно сказал Морленд, – очень многому. С одними мечтами да призраками не создать себе будущего. Приезжайте к нам, вы пройдете у нас настоящую школу. Через несколько лет вы по-другому будете воспринимать то, что теперь, вероятно, считаете идеалом. Я создам надежный фундамент для нашего будущего, и, если ваш талант подтвердит то, что обещает, то вы будете богатым и известным.
– Если вы это обещаете, то это уже много значит. Но и у нас человек, достигший известности, нынче не голодает, если бы мне представилась возможность создать здесь, на моей родине, что-нибудь такое, что пережило бы века и носило мое имя, – я отказался бы от всех богатств, которые вы мне сулите, и остался бы здесь.
Это был какой-то неудержимый, страстный порыв. Американец покачал головой.
– Хорошо, мы подождем, – лаконично промолвил он.
– А моя просьба дать мне подумать? Вы мне не откажете?
– Пусть будет по-вашему. Я хозяин своего слова, а за вашим ответом приду перед отъездом. В октябре я снова побываю здесь, и тогда вы поедете со мной! Вы поедете, мистер Зигварт!
В последних словах звучала твердая уверенность. Потом гость пожал хозяину руку и вышел из комнаты.
В кабинете графа Равенсберга, очевидно, только что произошла бурная сцена. Старый граф быстро ходил взад и вперед по комнате, между тем как его сын сидел на своем месте в каком-то оцепенении.
– Ну, папа, зачем же так волноваться? – сказал он наконец успокоительным тоном. – Право, лучше бы я промолчал! Я долго колебался, говорить ли тебе об этом или нет, но ведь в конце концов ты должен же был узнать истину.
– Истину! – вспылил Равенсберг. – Это ложь, отвратительная клевета! Как ты мог хоть на одно мгновение поверить этому?
– Но ведь это сказал нам сам Берндт. А он узнал от самого Гунтрама.
– Тогда, значит, и Гунтрам обманут. Герман Зигварт упрямец, который, едва окончив учебу, отказался от всякой помощи и проявляет в этом отношении какую-то безумную гордость, станет вдруг вымогать деньги у своего бывшего учителя? Утверждать это прямо смешно, даже подло! Я лучше вас всех знаю Германа. Он поссорился с Гунтрамом, но ведь старые художники очень ревнивы ко всякой молодой, свежей силе, это же все знают. Я вызову Германа и спрошу, как все это случилось, а теперь попрошу тебя не говорить больше ни слова.
Бертольд молчал. Он давно знал о симпатии отца к своему прежнему воспитаннику, но никогда не думал, что это может зайти так далеко – отвергать все обвинения, все достоверные доказательства!
Граф отнесся к обвинению Зигварта как к личному оскорблению. Он еще несколько раз прошелся по комнате, как бы желая успокоиться, и сказал, меняя разговор: