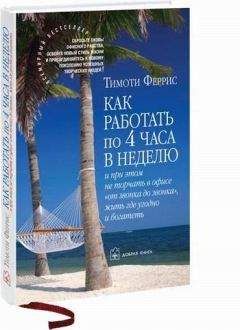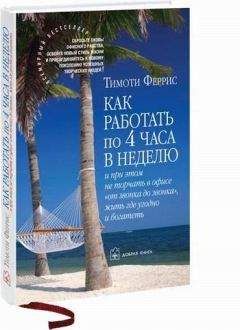— Эн… — Это не был вопрос. Казалось, Поль не знает, с чего начать. — Энн… О Боже! Как мне сказать тебе об этом?
Только теперь она расслышала в его голосе напряжение и почувствовала, как волна страха затопила ее душу.
— Поль, что-нибудь случилось?! Поль!
— Энн, дорогая, дело в том, что Бен… У него был… О Господи!
— Поль, что ты пытаешься сказать мне? — Энн удивило, как спокойно звучит ее голос, несмотря на охватившее ее безумное волнение. — Поль! — резко повторила она.
— Энн, я так неловок, прости… Не нахожу слов. Может быть, нужно было заехать к тебе? Может быть, я… Энн, с Беном нехорошо, у него был тяжелый сердечный приступ…
— Но это невозможно, Поль! — прервала его Энн. — Он так следит за своим здоровьем, в самом деле следит. А меня упрекает за то, что я выкуриваю несколько несчастных сигарет в день. Господи, да его вес не изменился с тех пор, как мы поженились! — Она продолжала говорить, не в силах остановиться. — Нет, Поль, ты, вероятно, ошибся — скорее всего это просто расстройство желудка! — Она заставила себя рассмеяться, надеясь, что смех прогонит всевозрастающий страх.
— Энн, я просто в отчаянии! К сожалению, никакой ошибки нет. Он умер! Мне так больно говорить об этом…
Она стояла, прислонившись к стене, не отрывая глаз от телефонной трубки, и отказывалась поверить в услышанное. До нее доносился голос Поля, упорно повторявший известие, которое отвергало все ее существо. В ее мозгу теснились какие-то слова. Ей казалось, что они могут заставить Поля перестать говорить эти ужасные вещи. Она чувствовала, как ее рот открывается и закрывается, но из него не вылетало ни звука.
— Энн, Энн… — повторял Поль.
— Спасибо, что позвонил.
Сделав над собой нечеловеческое усилие, Энн вытолкнула из себя эти слова. Всякое раздражение, резкость, страх исчезли из ее голоса. Теперь он звучал как обычно — очень вежливо. Она осторожно положила трубку и прижалась щекой к облицованной кафелем стене. Как приятно эти плитки холодят кожу, подумала она и провела по ним кончиками пальцев. Она помнила, что произошло что-то важное, но мысли ускользали от нее, а ей не хотелось напрягать память.
Косилка снова застрекотала, возвращая ее к действительности. Пустота в мозгу Энн заполнилась — она вспомнила. Откуда-то издалека донесся странный шум, он все усиливался. Она закрыла уши руками, чтобы не слышать эти невыносимые звуки. Дверь кухни распахнулась, и вбежала Мэг, женщина, приходившая помогать по дому. Ее лицо выражало ужас.
— Боже мой, миссис Грейндж? Что случилось?
Но Энн ничего не слышала. Она даже не понимала, что странные, нечеловеческие звуки были ее собственными криками, вырвавшимися из бездны ее отчаяния.
Пчелы гудели, занавеска продолжала колыхаться и легко постукивать о бамбуковую решетку… Эти безобидные звуки неизгладимо запечатлятся в ее мозгу и будут всегда связаны со смертью.
Потом, как они ни старалась, Энн не могла ясно вспомнить, что произошло в последующие часы, дни, недели. Весь этот период ее жизни остался в ее памяти каким-то расплывчатым пятном. Когда она пыталась мысленно к нему вернуться, то видела не себя, а неясную тень, призрак, скользящий в туманном вневременном пространстве. Это было похоже на сон, но все же не совсем — сны можно вспоминать и анализировать, тогда как ее переживания никакому рассмотрению не поддавались.
Все были к ней добры, даже слишком. Она не забывала об этом, хотя ей хотелось только одного: уползти, подобно раненому животному, подальше от всех и забиться куда-нибудь в угол. Но это было невозможно. Целая куча друзей и родственников не оставляла ее ни на минуту, не давала остаться наедине с собой. Спала она с помощью пилюль, прописанных ей постоянным врачом, несомненно, желавшим ей добра, — это она тоже понимала. У нее не было желания принимать снотворное, но не хватало твердости, чтобы отказаться. Каждое утро ее встречало улыбающееся лицо и бодрый голос кого-нибудь из любящих друзей, а потом ей давали новые пилюли — они должны были помочь ей прожить день.
Все необходимое было сделано, хотя она и не знала кем. Но похороны ведь состоялись! Потом ей все говорили, что она перенесла это испытание с необыкновенной твердостью. Но она-то знала, что ее твердость была мифом, так как она не помнила даже, что присутствовала на похоронах.
Через некоторое время все ее друзья, будто сговорившись, усвоили в разговоре с ней какой-то оживленный и деловой тон: «…ты должна взять себя в руки»… «жизнь продолжается»… «нужно больше развлекаться»… «поехать отдыхать»… «вступить в какой-нибудь клуб»… Энн чувствовала, что тонет в море банальностей.
Она ошеломленно поднимала на них глаза. Как она может «взять себя в руки»? Ведь она потрясена до глубины души и не способна заставить себя думать достаточно долго и напряженно, даже пытаясь разобраться в собственных ощущениях. К тому же она не знала, хочет ли этого. «Жизнь продолжается», — говорили они, но она не видела ни одной веской причины для того, чтобы продолжать жить. А развлекаться — зачем? Где? И какой в этом смысл? Без Бена развлечения не доставят ей никакого удовольствия. Дома, в окружении принадлежавших ему вещей, ей гораздо спокойнее. Все здесь еще хранит следы его присутствия. Кроме того, хотя она никому об этом не говорила, она была убеждена, что в один прекрасный день он вернется. Дверь отворится, он войдет, и жизнь станет точно такой, как раньше. Ей нельзя отлучаться из дому. А вдруг он вернется и не застанет ее?
Она вежливо улыбалась, выслушивая замечания, понимая, что никто даже отдаленно не может себе представить той пустоты, которую она ощущает в себе.
* * *
Дни складывались в недели. Медленно, словно против воли. Энн возвращалась к семье, к друзьям. Горе, которое до сих пор словно сидело в засаде, теперь перешло в открытое наступление, вероломно вцепилось в нее, постепенно, день за днем, проникая в ее сознание, заполняя образовавшуюся пустоту.
Встречаться с друзьями Бена было и приятно, и горько. Ей доставляло радость слышать, как произносят его имя, говорят о нем. Она испытывала гордость, когда превозносили его достоинства, смеялась, когда рассказывали забавные, неизвестные ей прежде случаи из его жизни. Но слушать она могла только некоторое время, будто внутри у нее находился счетчик, определяющий, сколько она может вынести, прежде чем горе охватит ее с невыносимой силой. Ее лицо каменело, взгляд становился тусклым и далеким, казалось, она больше не слышит того, что говорят. Ее собеседники смущенно меняли тему, но было уже поздно — она опять отсутствовала.