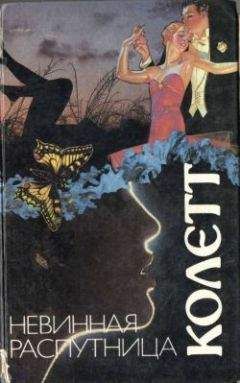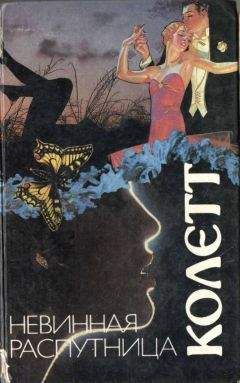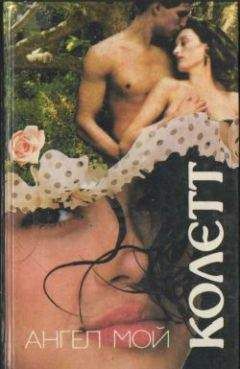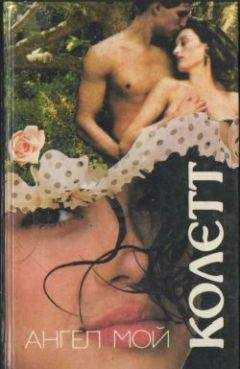Я не разглядела его жену, это правда. Но сейчас маленькая группка чётко всплыла перед моими глазами. Молодая женщина – из тех, что начинают казаться красивыми, когда их часто видишь. Она шла, как мне кажется, с несколько рассеянным видом, её движения были исполнены какого-то бездумного, словно бы животного покоя. «Спросите у мсье…» И мсье, держу пари, на всё исправно отвечает – и няньке младенца, и шофёру, который ждёт распоряжений, большой смуглой рукой он по понедельникам придвигает к себе счёт из прачечной и каждое утро обсуждает меню с кухаркой… Быть может, он иногда вспоминает меня и в те дни заказывает «свиные отбивные в соусе, сильно приправленном уксусом…» Вполне возможно, что его молодая жена зовёт его «Макс…» голосом, который ему кажется знакомым, а когда он грубовато шутит, совсем не исключено, что она, пожимая плечами, говорит: «Долговязый Мужлан!..» И тогда он утыкается ей головой в плечо и закрывает глаза, чтобы скрыть волнение, а вместе с тем и двусмысленную радость от своего молчаливого вранья, радость, которую, впрочем, они все испытывают, когда нас ловко предают как раз в тот миг, когда сжимают нас в жарких объятиях…
Ну вот, пошла писать деревня… Догадываюсь, придумываю. Оживляя свои воспоминания, я как бы проникаю в брак бывшего возлюбленного, проявляя при этом изощрённое недоброжелательство брошенной любовницы, когда на самом-то деле это ведь я… Хуже того, я проявляю богатое эротическое воображение целомудренных людей, и мне в этом помогает моя, увы, очень точная память… И я – а собственно говоря, по какому праву я помещаю между Максом и его женой призрак Рене Нере, незабытый и незабываемый… Незабываемый! Скажите на милость, чем я сейчас лучше холодной красивой дуры по фамилии Вильпрё, певицы, которая, когда при ней произносили любое мужское имя, восклицала с придыханием: «Ах, он от меня без ума!.. Он едва не покончил с собой… Он покинул родину, бедняжка!..» Зато сама Вильпрё, верная своим диким фантазиям, испытывает счастье, которое доступно только тем, кто в обитой войлоком палате в жёлтом доме мнят себя одни – Христом, другие – Наполеоном…
Дождь за окном хлещет пуще прежнего. Я сегодня не выйду из своей комнаты. А ведь на афишах кабаре «Эльдорадо» значится имя моей бывшей товарки по мюзик-холлу. Мне хотелось неожиданно появиться за кулисами, удивить её… Нет, не пойду туда нынче вечером. Ближайший от меня береговой прожектор, словно маленькой серебряной кисточкой, прочерчивает рябую от дождя морскую гладь… Глядя на это, я распускаю волосы, но не оставляю их рассыпанными по плечам, а машинально начинаю снова их собирать, повторяя ту причёску, которую носила тогда, три года назад. Я опускаю пряди эдакими фестонами на уши, а затем стягиваю волосы на затылке в тугой узел и взбиваю на темени кудряшки на манер средневековых пажей… Постарела ли я? Да, нет… и да и нет. Что-то в цвете и вялости кожи лица напоминает изысканную засушенность тех женщин, которые напрочь лишены телесных радостей. Мне теперь не нравится моя прежняя глупая, всё скрывавшая причёска. Теперь я стала обнажать то, что прежде бывало скрыто от глаз: уши, виски, верхнюю часть лба и затылок, выемку спины, шею, ключицы. Плечи я ещё не решаюсь открыть, не смею, как говорит Браг, «снять униформу». Кожа ног и рук, округлость груди – всё это выставляется напоказ на сцене, но только на сцене, густо смазанное кремом, чтобы удержать пудру. Это как бы натюрморт, на это смотрят издалека, это вне досягаемости для прикосновений и поцелуев, как бы принадлежность, хоть и более волнующая, сценического костюма… Я не раз замечала у многих товарищей по театру и мюзик-холлу этот странный, чисто профессиональный сдвиг в целомудрие, в силу которого они выступают чуть ли не голыми у самой рампы, но в жизни замуровывают себя в плотную тафту и непрозрачный гипюр. Прошёл уже год как я покинула сцену, но во мне сохранилась эта чисто профессиональная стыдливость, и Я скромно скрываю и то и это, хотя, обнажив, вызвала бы только зависть. Красавица танцовщица Бастьен, роскошная пленительная нимфа, требовала от своего портного, чтобы в её вечернем платье декольте было прикрыто тремя слоями муслина, и всё твердила, ударяя ладошкой по своей упругой груди: «Это, мсье, принадлежит только моей профессии и моему любовнику!»
У меня нет больше профессии… Да и любовника нет. Но из-за встречи, которая произошла сегодня после обеда, я всё же надела на ужин, словно бросая вызов, это чёрное платье, которое я прежде никогда не решалась надевать из-за чересчур глубокого треугольного выреза на груди… Скованная, со стиснутыми зубами, я героически пересекла ресторанный зал и села за свой маленький столик, вдали от цыганского хора, и, представьте себе, никто не обратил ни малейшего внимания ни на меня, ни на моё платье. Неужели я ждала, что Макс… что «господин Дюферейн-Шотель с семьёй» ужинает в гостинице «Империал»? А на самом деле никто не обратил внимания, никто, кроме Одинокого Господина, который интересуется Одинокой Дамой, то есть мной, и ходит за мной по пятам уже несколько дней, пытаясь познакомиться. Но ему это не удаётся, и он исчезает.
Одинокая Дама, в общем-то, классически одинокая в чересчур строгих платьях, не вполне соответствующих выражению моего лица, я неизбежно должна была привлечь внимание какого-нибудь Одинокого Господина. И действительно, вот уже неделя как появился такой у меня. Я не смогла бы его описать, потому что его не видела. Когда я гляжу в ту сторону, где он сидит, я не вижу его: взгляд мой проходит сквозь него, как сквозь пустой графин. Я знаю только форму его спины, потому что всякий раз он с подчёркнутой деликатностью отворачивается от меня. Столкнись мы лицом к лицу, я бы его не узнала, я отличаю его от других только по спине. Больше всего он стесняет меня во время обедов или ужинов, потому что я слышу, что он думает обо мне, когда ест. Сегодня вечером, послушная его влюблённой воле, я, думая о Максе, улыбнулась, глядя в его сторону. Мне не следовало бы этого делать… Впрочем, это не имеет никакого значения!
Дождь перестал стучать в оконное стекло, и возникшая тишина меня разбудила. Тишина здесь – это похрустывание гальки под набегающими волнами, цоканье маленьких копыт местных лошадок и редкие гудки автомобильных клаксонов… Я распахиваю окно и высовываюсь так, чтобы увидеть, освещены ли окна этажом ниже. Это комната моей подруги Майи. Я вижу тени на занавесках… Там живёт пара бешеных любовников, для которых ссоры, переходящие в драку, являются своего рода шведской гимнастикой. Моё появление, спустись я к ним, отнюдь не заставило бы их утихомириться. Я могла бы сесть и вести счёт ударам, пока оба, вконец обессилев, не решат, что у них нет друг для друга худшей кары, нежели объятия…