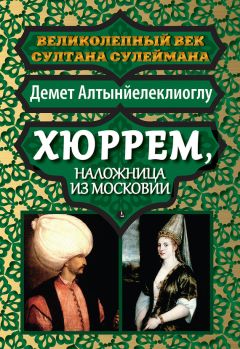Ознакомительная версия.
Рустем лучше всех в султанской конюшне мог угомонить разъяренных коней и проявлял при этом столько жестокости, что его невольно остерегались все остальные конюшие, хотя никто из них отнюдь не принадлежал к ангелам — были это люди черствые, злобные, ненавидящие. Среди этих одиноких молчаливых людей Рустем рос еще более одиноким и молчаливым, чем они. Высокий, понурый, кривоногий, с каким-то застывшим лицом, скрытым в жестких черных зарослях, этот человек пользовался таким всеобщим презрением и нелюбовью, что благосклонность к нему султана никто не мог ни истолковать, ни просто понять. Рустем видел, какой ненавистью окружен, но не заискивал ни перед кем, не боялся враждебности окружающего мира. В его непокорной боснийской голове родилась мысль не только отомстить этому миру, но даже уничтожать его всеми доступными ему средствами. Но чем он мог отомстить? Презрением, которое мог выражать, возвысившись над всеми благодаря непостижимой благосклонности Сулеймана? Но достаточно ли молчаливого презрения, когда вокруг торжествует жестокость? К тому же благосклонность и милость падишаха могут пройти так же неожиданно и непостижимо, как и родились, — и тогда ты останешься беспомощным, отданным на расправу и съедение, бессильным и безоружным. Человек в этом мире должен иметь свое оружие. Как хищник — клыки и когти, как змея — яд, как бог — громы и молнии, как женщина — красоту и привлекательность. Не надо думать, что Рустем пришел к этому выводу сознательно. Сопротивление рождалось в нем словно бы само по себе, вызванное самой жизнью, неволей и недолей, а в особенности же окружающей жестокостью. Точно так же, как бесстрашно бросался он навстречу ошалевшим коням, стал Рустем ввязываться в людскую речь, бросая туда изредка злые насмешливые слова, едкую брань, издевательские восклицания. Вскоре ощутил в себе настоящий дар брани. Он бранился почти с гениальной грубостью. Те, кого он ругал, не могли ему этого простить и возненавидели Рустема еще больше, а он разгорался от этого еще сильнее, сыпал свою брань неутомимо и щедро, вызывая восторг у посторонних слушателей и ненависть у тех, кого ругал.
— Аллах против всех, и я тоже против всех. А все против меня, говорил Рустем.
Он был одинок, как аллах.
Быть может, это почувствовал султан Сулейман, который, собственно, тоже был безнадежно одинок на этом свете, и возвысил Рустема, сделав его со временем начальником султанских конюшен — имрахором. Кажется, было только трое людей в безграничной империи, с которыми падишах любил разговаривать: любимая жена его Хасеки, всемогущий Ибрагим и этот хмурый босниец, пропитанный острыми запахами конского пота и конской мочи. Султану нравились мрачный юмор Рустема и его беспощадный язык. Сам принадлежал к людям мрачным, но вынужден был эту мрачность сочетать с величием, ибо этого требовало его положение. Потому охотно слушал человека, не скованного ни долгом, ни положением, человека если и не свободного до конца, зато своевольного. Тридцатилетним Рустем уже имел самое высокое в империи звание паши, хотя не отличился ни в битвах, ни в чем-нибудь другом, а умел только присматривать за конями, седлать их, скакать на них и жить с ними.
Ибрагим, который ревниво убирал всех, кто пытался занять хотя бы малейшее место в сердце султана, оставался бессильным лишь перед двумя: перед Роксоланой, чары которой превышали его хитрость, и перед Рустемом, может, единственным человеком в империи, который говорил все, что думает, и просто убивал своими словами. Про Ибрагима, когда тот стал всемогущим великим визирем, а потом уже и сам себя называл вторым султаном, безжалостно уничтожая своих противников, Рустем сказал: «Если бы сам аллах пришел на землю, то и ему Ибрагим велел бы набросить на шею черный шнурок».
Ибрагим отплатил имрахору, отправившись в поход против персидского шаха. Когда зимовал в Халебе, прислал Рустему в Стамбул фирман, согласно которому Рустему выделялся санджак Диярбакыр, на самом краю империи, возле кызылбашей. Высоченные горы, вечные снега, пустынность, стремительные реки, мечущиеся по равнине, изменяя свои русла, дикие племена, которые никогда не успокаивались. Но раз тебя назвали пашой, поезжай править. Рустем попросил султана, чтобы его оставили в Стамбуле при конюшне, но Сулейман не захотел вмешиваться в действия своего всемогущего любимца. «Вот приедет Ибрагим из похода, тогда скажу, чтобы вернул тебя обратно», — сказал ему султан.
Да, наверное, забыл, а может, и сказал, но Ибрагим вскоре был убит, и некому было выполнять повеление султана, — так Рустем остался в Диярбакыре. Знал, что при дворе целые толпы прихвостней, продраться сквозь которых, чтобы попасть к султану, нечего и думать. Хотя теперь, как санджакбег, Рустем вынужден был иметь дело с людьми, но все равно не мог избавиться от ощущения одиночества, о котором забывал лишь тогда, когда оставался с конями, когда шел на конюшню, где было чисто, как в мечети, а тяжелый запах конской мочи и навоза словно бы отгораживал тебя от суеты и скуки мира.
Снова, как и когда-то, любил Рустем (теперь уже паша с пышным сопровождением) ездить верхом на коне по ночам, скакать по бездорожью, под чужими звездами, неизвестно куда и неизвестно зачем.
Одинокий, как чужая звезда на вечернем небе.
На всю жизнь запомнил последнюю свою ночь в Диярбакыре. Как скакал вечером на коне, а между деревьями гнался за ним узенький, будто ниточка, золотой серпик молодого месяца, скользил по небу неслышно, таинственно, не отставал и не обгонял, но вот дорога сделала поворот, и месяц оказался далеко впереди, и теперь уже он убегал, а Рустем догонял его и не мог догнать. Потом дорога внезапно выскочила на темную округлую вершину, всю в высоких деревьях, и месяц упал вниз и теперь проскальзывал между стволами, чуть ли не у корней, но тут дорога снова пошла в долину (Рустем почувствовал это, сползая под тяжестью собственного тела на переднюю луку седла), конь нес всадника вниз, ниже и ниже, земля под копытами уже не издавала полного звука, как на вершине, а издавала мягкий, приглушенный топот, копыта не стучали, а словно бы ударяли по воде, деревья расступались шире и шире, внизу раскинулась безбрежная голубовато-тусклая равнина и над нею огромное, такое же голубовато-тусклое небо, и где-то на страшной высоте, над самой головой Рустема, висел серпик молодого месяца. Теперь месяц висел неподвижно, — как ни гнал Рустем своего коня, далекое мертвое светило не приближалось, было недостижимым, как судьба.
Рустем придержал коня, пустил его шагом, долго так ехал, как человек, которому некуда спешить. И тут среди ночи, на незнакомой дороге догнал его султанский гонец из Стамбула и вручил фирман от самого падишаха. Гонец с девятью охранниками должен был скакать из Стамбула днем и ночью, делая лишь необходимые передышки в караван-сараях и ханах, чтобы вручить султанский фирман паше там, где и когда его найдет, и фирман должен быть прочитан немедленно, и точно так же немедленно должно было выполняться повеление падишаха.
Ознакомительная версия.