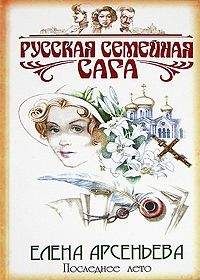Ознакомительная версия.
Капельдинер посмотрел ей вслед, укоризненно покачал головой, снова сел на свой нагретый стул в уголке и с наслаждением опустил на глаза усталые, набрякшие веки…
* * *
– Даня, вот тут пыльно, ты подмети! Даня, слышишь меня?!
Горничная, она же «кухарка за повара», то есть мастерица на все руки, Даня, услыхав голос хозяйки, погрозила пальцем молодому дворнику Мустафе, пришедшему, чтобы дрова на кухню принести, а вовсе не под юбку ей лазить, и отскочила. Наступила на кучу березовых чурочек и едва не растянулась на полу.
Мустафа, в белом холщовом фартуке, надетом поверх дворницкого жилета (такие, синие или черные сатиновые, глухие, носили только дворники), из-под которого торчала выпущенная ситцевая рубаха, переминал ногами в растоптанных галошах-«кенгах» и неотрывно, сузив и без того узкие глаза, смотрел на Данин белый фартук, в основном – на нагрудник его.
– И-ирод! – выдохнула Даня с чувством. – Идолище! Чего вытаращил глаза свои магометанские? Тебе же говорено было – сложить, сложить, да не под печку, а вон туда, подальше! Не ровен час, искра выскочит, все спалит! Ничего, ну ни-че-го-шень-ки толком сделать не можешь, а туда же!
«Туда же» – имелось в виду под Данину юбку, проникновение под которую было строжайшим образом регламентировано. Небось не всякому православному дозволялось, а чтоб каким-то глазам магометанским… Ни-ни!
Мустафа насупился и принялся осторожно складывать рассыпанные по полу дрова.
Даня схватила метелочку и побежала успокаивать барыню (вообще-то, к незамужней Олимпиаде Николаевне следовало обращаться, как к девушке, и кликать барышней, но Даня ее жалела – кому охота зваться барышней в такие-то года?! – а оттого звук ш обычно тактично проглатывала.
Олимпиада Николаевна Понизовская (которую гораздо чаще называли в Энске тетей Олей Русановой) ждала назавтра гостей, а оттого весь дом уже несколько дней ходил ходуном. Как и подобает престарелой девице (тетя Оля на год старше своего зятя, а значит, ей недавно исполнилось сорок шесть), она была хлопотлива, суетлива и ворчлива. Иногда ей казалось, что для полного вхождения в образ ей не хватает только левретки и любимой кошечки, обеих – с бантиками на шее: красненьким… нет, не красненьким, после пятого года этот цвет приобрел оттенок некоей двусмысленности… значит, с розовеньким и голубеньким бантиками… Но от громкого собачьего лая у нее наступала мигрень, от кошачьей же шерсти у Константина Анатольевича делалось стеснение в горле и насморк. Приходилось тете Оле ограничивать свои стародевьи привычки ворчанием на горничную Даню, раскладыванием пасьянсов, завивкой волос особыми щипцами, которые она нагревала, засовывая в плафон керосиновой лампы, весьма слабохарактерным надсмотром за племянниками (жесточе, чем поставить в угол, или на полчаса посадить на стул, или оставить без сладкого, наказания для них у тети Оли не находилось), лечением им воспаления среднего уха с помощью горячего мешочка с отрубями (у младших Русановых, как в свое время у девочек Понизовских, были слабые уши) – и тщательно скрываемыми мечтами о том, как было бы прекрасно, волшебно, если бы с Константином Анатольевичем что-нибудь случилось и он попал бы в ее полное и безраздельное владение.
Раньше, предыдущие двадцать лет, она мечтала, чтобы Константин полюбил ее. Вдруг бы отверзлись у него очи на сей бриллиант верности, именуемый Олимпиадою, – и полюбил…
– Оля, это глупо! – говорила, заставая ее в слезах, среди обломков несбывшихся надежд, самая близкая подруга Наталья Владиславовна, с детства прозванная Натасенька. – Любовная трагедия хороша в молодые годы. Нужно душу вовремя выжечь, чтобы потом больше не горела. А у тебя она что-то горит, горит, да никак не выгорит! Пошла бы ты хоть за кого-нибудь замуж, что ли? В конце концов, это же не навечно.
Насчет «не навечно» Натасенька знала, что говорит. В юные годы она пользовалась превеликим успехом у веселых холостых чиновников, но дальше ухаживания дело не шло: в каждом из своих кавалеров Натасенька находила те или иные недостатки, с носителем которых совершенно невозможно, как она считала, ужиться. Довыбиравшись чуть ли не до тридцати лет, она спохватилась, что женихов больше нет, и в конце концов вышла за какого-то господина Тараканова: скромного чиновника из пароходного товарищества «Самолет», в самом деле внешне очень напоминающего таракана. Он был бесцветно-рыжеватый, с закрученными высоко усами. Чтобы усы стояли, Тараканов по утрам ходил в особенной повязке, которая называлась «наусники». Однако это еще можно было терпеть, хуже другое: в самом скором времени оказалось, что Тараканов – настоящий алкоголик, который в периоды запоя тащит из дому все, что под руку попадется: самовар – так самовар, ложки – так ложки, а потом его обнаруживали в публичном доме, откуда швейцар на извозчике привозил его домой. Придя в себя, он совершенно никакой вины не испытывал и только отругивался от упреков Натасеньки, а если не хотелось их терпеть, уходил на некоторое время к отцу, в покосившийся дом на Студеной улице, близ Дюкова пруда. Там он однажды, напившись допьяна, заснул с недокуренной папиросой в зубах. Папироса выпала на диван, случился пожар. Сильно обгорелого Тараканова доставили в больницу. Потом он умер, в гробу лежал с обгорелыми, аккуратно состриженными усами, был похоронен на Петропавловском кладбище и оплакан женой, которая вообще была склонна к аффектации и поэтому искренне о нем горевала.
Олимпиада Николаевна подозревала, что те семь дней, пока Тараканов лежал без памяти, а Натасенька сидела рядом с ним несходно, были самыми счастливыми в ее семейной жизни. С тех пор она и стала мечтать, чтобы с Константином Анатольевичем что-то приключилось… Ведь тогда эта актерка его немедленно бросит, да и девкам в нумерах на Рождественской улице и под Откосом он тоже не будет нужен. Дети, Сашенька и Шурка, конечно, очень любят отца, но разве можно ждать от молодых истинной заботы в болезни? Им все хаханьки!
Вот пример. Тетя Оля знает, что они и ее очень любят, но никогда не упустят случая посмеяться. Однажды она нечаянно услышала, как Шурка врал своему дружку Коле Калинину: мол, тетя Оля потому в баню никогда не ходит, что все свои деньги в чулке хранит и боится этот чулок снимать. Глупости! В бане ей делается дурно, кровь вовсе отливает от головы, она в обмороки падает, а потому моется на кухне, в большой круглой цинковой ванне, с помощью горничной Дани, которая знай нагревает воду в кастрюльках и подает барыне… А по Шуркиным словам выходило, будто она вовсе никогда не моется… То-то Коля Калинин к ней как-то странно потом принюхивался, молодой дурак!
Ознакомительная версия.