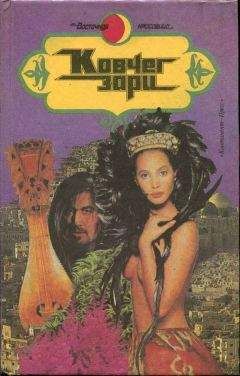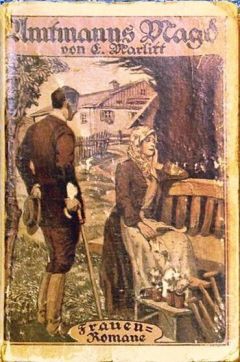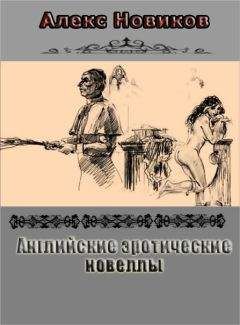Все его маленькое существо теперь было — тревога и нетерпение. Казалось, эти тревога и нетерпение обрели вдруг и некое звучание, неуловимое какое-то, странное, но оно было, оно слышалось как бы внутри головы и заглушало слова взрослых людей во дворе.
Теперь Андреас легонько отбежал в сторону, еще в сторону. Он не притворялся, будто бы следит за этими большими темными птицами, нет, он и в самом деле глядел на них, не отрываясь, с какой-то машинальной неотвязностью. И словно бы оттеснял, отталкивал на самую глубину души четкое осознание того, что он должен сделать, того, что он сейчас сделает. Он четко, твердо осознавал, знал.
Наконец он почувствовал, что уже можно, уже не смотрят на него, не обращают внимания, уже отговорили свое о нем и полагают вполне естественным, что маленький мальчик вдруг отвлекся от разговора взрослых, ему такое можно, он маленький еще.
Сердце быстро заколотилось. Вот сейчас он вырвется. Коротко перебегая по утоптанному уже снегу, он совсем приблизился к неплотно прикрытой калитке. Он подбежал совсем близко. Последний момент напряжения. Внезапный короткий и острый приступ страха: вдруг помешают, остановят… Он почти не ощутил, как обе его ладошки нервически-быстро толкнулись о шершавые доски. И уже вдохнув воздух улицы, другой, чем во дворе, какой-то сиротский и опасный воздух, мальчик с полуосознанной осторожностью прикрыл калитку, чтобы не сильно хлопнула.
* * *
И теперь он чувствовал сердце, сильно бьющееся в груди. Но теперь можно было бежать. И он побежал быстро, мгновенно увлеченный быстрым движением, не видя, не разбирая дороги. Прежде, когда мать видела, что он бежит так быстро, она пугалась, вдруг он упадет, расшибется, и тревожно окликая, останавливала его, или догоняла и подхватывала тревожно на руки.
Но теперь он был совсем один. Прежде так никогда не было; не было так, чтобы он был совсем один и сам бы мог быстро решать, что ему надо делать. А теперь вдруг стало так, и это было немножко страшно и тревожно. Впервые он был на улице совсем один. Сначала он бежал, чтобы побыстрее оказаться подальше от дома, от двора. После он даже и не заметил, не увидел, а почувствовал, что его дом остался позади. Сделалась новая тревожность. Андреас знал, что сейчас он решится на запретное. Мать никогда не говорила ему, что это делать нельзя. Кажется, мать и вовсе ничего не говорила об этом. Но он все разно знал, что то, что он сейчас делает, сделает, это запретное, и даже он может этим обидеть мать; получится так, что из-за него о ней станут плохо говорить; быть может, станут смеяться над ней или даже станут сердиться… Кто?.. Нет, не…
От этих мыслей, сначала быстрых и совсем хаотических, затем все более определявшихся, мальчик побежал медленнее. Но он не хотел, не мог вернуться. Теперь он бежал медленнее и поворачивал головку, смотрел по сторонам. Он знал, что именно он ищет, что ему хочется увидеть. Лицо его чуть раскраснелось, в больших темных глазах выражались детски открытые тревожность и боль.
Было странно и запретно. А ведь он знал, что прежде он жил в том доме. Он даже смутно помнил. И от этого знания, от этой смутной памяти было еще страннее и запретнее. И как-то делалось странно: щекотно под сердцем. Вдруг делался такой короткий смешок, будто всхлип.
Он бежал к своему прежнему дому, к тому дому, где он родился и первые два года жизни прожил.
* * *
Почему он знал тот дом? Когда ему сказала мать? Как это сделалось? Он не помнил. А, может быть, просто делалась яркой смутная детская память о прежнем?
Он бежал к дому. Потому что в его детском сознании дом прежний и отец были единством. Но вдруг мальчик резко остановился. Прохожих было мало. В такое время дня все дома, за обедом, едят, не спеша… Вдруг пришло с ужасом, что ведь отца может и не быть в доме. А там она… Кажется, он никогда и не видел ее. Но даже смутная мысль о ней вызывала чувства ужаса и отвращения. Ему были противны эти чувства, он был добрый, а эти чувства — он знал — были злые, и потому он их не хотел. И оттого что она как бы заставляла его испытывать злые чувства, становиться злым, он не любил ее. Но не любить кого бы то ни было, это было нехорошо, он тоже знал. И он говорил себе, что ее как будто и нет, и не было никогда, и ведь нельзя злиться на того, кого никогда и не было… Но и сам понимал, что нет, не так… А как же? И это он знал. Надо было и ее любить. Но не мог. Что-то страшное, неодолимое мешало, не пускало любить, не давало любить. Наверное, это она и называлась «враг». Но надо и врагов любить. Но пока не получалось… Он мотнул головкой. На личике появилось выражение озабоченности. Лучше не думать обо всем этом…
Вдруг возникла уверенность, что отец дома. Снова бежал мальчик по мостовой, по холодным камешкам, пригнанным друг к дружке. Снег на мостовой не держался. Небо, почти непрозрачное, светло-серое, опустилось между острыми концами крыш.
Он знал, что его прежний дом — с башенкой. Знал, что не заблудится.
Но когда он — и это получилось вдруг — увидел эту башенку так наяву, такую всю «на самом деле», вещную, даже давящую его маленькое, детское еще сознание этой своей вещностью, реальностью, тем, что была она такая настоящая и нельзя было от нее убежать. Ведь если убежать, она все равно останется, будет. И если закрыть глаза, она все равно будет. И значит, бежать или закрывать глаза — сильно-сильно, чтобы веки едва проглядывали тонко, остро, кончиками… значит, бежать или закрывать глаза — это только обманывать себя. Все равно останется, будет…
На окне, овальном и чуть стрельчато вытянутом, складчато присобрана бордовая бархатная занавеска. Она как-то коварно и враждебно и гибко изгибалась, замерев в этом изгибе. У нее как будто были такие красивые вишневые глаза, большие, и она ими смотрела, вроде бы и не зло, просто показывая, какая она красивая. Но было ощущение, что она беспощадная, она страшнее сказочной ведьмы, старухи с большими редкими зубами и торчащими из-под платка грязными дыбящимися космами седыми. Занавеска не шевелилась, но как будто живая была, как будто это была…
Он стоял, беззащитный, некуда было спрятаться, дому он был открыт. Он на миг зажмурил глаза, сильно-сильно. Это на миг дало хотя бы малое ощущение скрытости своей, защищенности. И это ощущение успокоило.
Вдруг уже не пугало что-то неясное и потому еще более страшное. Ушло совсем. Теперь мальчик только чувствовал, знал, зачем же он прибежал сюда.
К отцу! Было детское отчаяние после обыденных взрослых слов. Нет, нет, не надо! Пусть не будет! Чтобы не было так! Не будет! Чтобы не было нового отца. Не будет. Не будет! И это могли говорить и думать только о Гансе. Мальчику показалось, что мать и Ганса и его самого хотят испачкать, грязнить словами и предположениями. Но даже не это было самое противное. Мальчику страшно было подумать, но шевелилась, будто бесформенное еще насекомое выкарабкивается из кокона, шевелилась мысль: а если, а вдруг это… это правда?.. Нет! Нет! Потому что тогда он уже будет как будто бы и не он; и он убежит, уйдет от матери, из города, совсем, просто будет идти, идти… И будет мучительно и страшно-безысходно, потому что это будет уже и не он… А кто? Совсем непонятно. Только ему будет страшно и безысходно, потому что это будет не он. От него в нем останутся только этот страх и безысходность, все остальное в душе — это будет не он… Так не может быть. Нет! Неправда!..