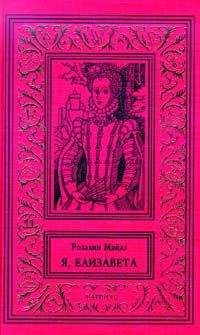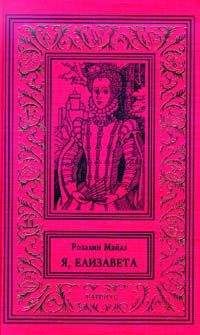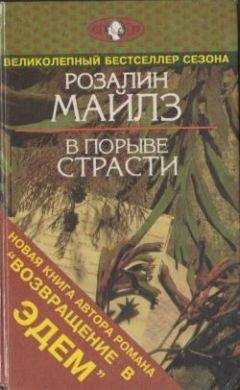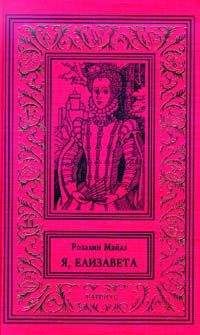И наконец крик, которого я ждала, о котором молилась, которого страшилась:
— Король! Король идет!
— Король! Король!
Король!
Толпа, теснившаяся вокруг брата Эдуарда, расступилась, как воды Чермного моря[13]. В образовавшийся проход хлынули черные королевские гвардейцы и тут же выстроились в два ряда, чтобы сдержать напор. За ними двигалось… но что это?
Четверо носильщиков, дюжие, словно разносчики туш со Смитфилдского рынка, выступали попарно, как лошади в четверной упряжке, за ними тем же порядком шагали еще четверо, все восемь с трудом тащили огромное, увенчанное балдахином сооружение из кованого металла, подушек и бархата цвета осенней листвы.
Я зажмурилась, не веря своим глазам. Посредине обитых подушками, застланных бархатом носилок высилось огромное, в три обхвата, кресло, наподобие трона, тоже с подушками, а на нем покоился великан, сказать о котором «в три обхвата» значило бы не сказать ничего.
Он весил, наверное, стоунов[14] тридцать. Огромный, как самые большие пивные бочки, в каких порой ночуют бродяги. Голова — исполинский шмат сала, щеки — ломти потеющего сыра, глаза — щелочки, не способные ни открыться, ни закрыться полностью. Словно серые буравчики, они смотрели злобно и подозрительно, голова ушла в укрытые мехом плечи, плотно сжатый, перекошенный беззубый рот выражал ту же злобу и желание мучить.
Руки не сходились на раздутом брюхе, на пальцах еле видны были кольца — они заплыли жиром, белые и неживые, словно у мертворожденного младенца. От выставленной вперед, затянутой в камчатную ткань и белый бархат ноги, подбитой, как и трон, подушечками из конского волоса и торчащей вперед, словно исполинская карикатура на мужской член, шел отвратительный сладковатый запах, который проник в залу вместе с королем, даже раньше: запах смерти.
Мой отец, король.
«Вы найдете в нем перемены, будьте к этому готовы».
Я слышала предупреждение королевы. Теперь я поняла, что пропустила его мимо ушей.
Носильщики, не дрогнув, вынесли сооружение на середину залы и, поднатужившись, водрузили на помост под королевским балдахином, убрали дубовые рукояти и вышли. Сперва Эдуард, затем Мария приблизились к трону и засвидетельствовали свое почтение. Что скажет Елизавета?
Осторожнее! Осторожнее! Еще раз — осторожнее!
И все же убранство его отличалось всегдашней пышностью. Борода присыпана шафраном, дабы напоминать о днях, когда она отливала собственной золотистой рыжиной, волосы аккуратно подстрижены и расчесаны. На голове — изящный бархатный берет его излюбленного покроя с черной, обрамляющей лицо каймой, с вышивкой золотом и жемчугом и с ниспадающим к уху белым пером. Рыжая мантия оторочена лисьим мехом, под ним изумрудный камзол с буфами, затканный золотом, простеганный и разрезанный так, что на ткани не осталось ни одного живого места.
И над всем этим царит знаменитый, знакомый гульфик. Еще более объемный, чем прежде, дабы не отстать в пропорциях от мощного торса и ляжек, он выпирал и торчал, круглился и пламенел, словно хвалясь органом размножения, достойным великана, а не только что короля. Горячий и злой, в огненного цвета великолепии, он похвалялся своей живучестью, демонстрируя неугасимую мужскую силу, которая не изменит и не подведет. Но ведь он бессилен сделать ребенка моей дорогой Екатерине — если верить ее словам, она с равным успехом может понести от украшенного цветами и лентами майского шеста[15]. В этой мужской похвальбе не больше правды, чем в россказнях тщеславного юнца или бахвальстве одряхлевшего вояки. Пустая мошна, из которой исходят лишь пустые посулы!
— Леди Елизавета!
Мой церемониймейстер подталкивал меня вперед. Я упала на колени. Рядом с королем на помосте стояли теперь Эдуард и Мария, справа и сзади — королева и ее дамы, вошедшие вслед за королевскими носилкам. Под носом у меня появилась огромная белая рука, пальцы раздувшиеся, словно от водянки, холодные от множества алмазов и сапфиров. Я поцеловала их такими же холодными губами, на сердце у меня было еще холоднее.
Как он до такого дошел?
Теперь он потянулся ко мне, поднял, привлек к себе.
— Ну, поцелуй меня, детка, обними отца! — приказал он.
Вблизи смрад был невыносим. Даже голос звучал по-стариковски — хриплый, дребезжащий. Я, давясь от тошноты, наклонилась погладить его щеку. А Екатерина вынуждена принимать его на ложе… допускать до себя… даже соединяться плотью…
Меня мысленно передернуло. А разве у нее есть выбор? Она обещала — я сама слышала — «любить, чтить и повиноваться… в болезни и во здравии…»
«Это — женская доля, — думала я, — это расплата за наш пол».
— Ну? Ну, мистрис Елизавета? — Свинячьи глазки буравили меня насквозь. — Как вам живется?
Десять лет муштры у Кэт, усугубленные новым, обостренным инстинктом, пришли мне на выручку.
— Тем лучше, сэр, что я вижу вашу милость в силе и здравии, образцом не только короля, но и мужа!
Он фыркнул от удовольствия, как боров под дождем.
— Славно сказано, девица! Давай, становись рядом со мной! — Потом поднял голову и рявкнул столпившимся вокруг придворным:
— Слушайте, милорды!
По его приказу я заново повторила свои слова. Снизу вновь донеслось довольное урчание.
— Слушайте! И судите сами, впрямь ли эта девица — дочь своего отца по речистости и сообразительности, или нет!
В полушаге от меня Мария напряглась — не знаю, от услышанного или оттого, что все мы в этот миг увидели. Сквозь толчею нарядно разодетых кавалеров и дам, мимо лордов Гертфорда и Сеймура, мимо Серрея и Норфолка, Ризли, сэра Паджета и его противного племянника, мимо Дадли и епископа Винчестерского пробирались три или четыре худые, бедно одетые женщины, судя по платью в строгом протестантском вкусе — горожанки. Первая несла в руке свиток.
— Пощады, государь! — вскричали они и разом упали ниц на тростник перед троном. — Пощады вашей верноподданной и христианке Анне Эскью, приговоренной к казни за ересь!
— Что? Что такое?
Генрих наклонился вперед, скалясь, как гончая.
Ризли кинулся в бой.
— Глупые бабы, никчемные простолюдинки, Ваше Величество! — произнес он, вырвал у женщины петицию и жестом подозвал начальника стражи. — Прогоните их!
— Минуточку, лорд-канцлер! Как вам известно, наш закон оставляет за самым ничтожным из подданных право обратиться к государю с прошением.
Неожиданное вмешательство Екатерины, ее звонкий и твердый голос остановили и Ризли, и начальника стражи. Королева наклонилась к женщинам, ее дамы — леди Герберт, Гертфорд, Денни и Тиррит сочувственно столпились рядом.