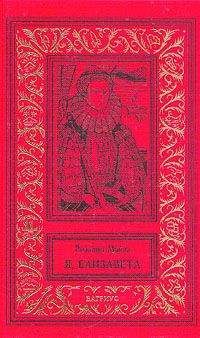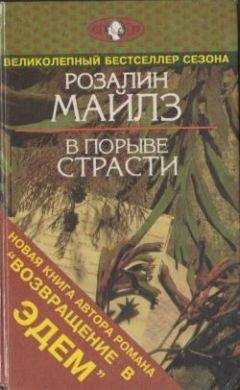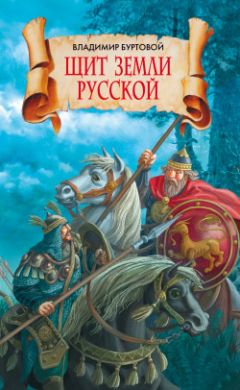— Кто отослал приговор?
— Я, Ваше Величество.
Дэвисон, верный слуга — верный Иуда!
— Стража! Сюда! — Задохнувшись, я указала на него, и его увели. Я глотнула воздух. — Повесить его! А вы… вы… — Я обернулась к Берли и Хаттону. — Вы за свое самоуправство заплатите! Отлучаю вас от двора — предаю вас анафеме отныне и до века…
— О, Ваше Величество, нет!
Хаттон на коленях, плача, ловил мой подол.
Но Берли выпрямился и расправил старые плечи.
— Как угодно Вашему Величеству. — Гордо склонил голову. — Только одно слово в нашу защиту. Королева Шотландская действовала подло и предательски, и она справедливо призвана к ответу и понесла наказание. Мы действовали честно, по английским законам, и своевременно. Останься она жить, заговоры против вас, миледи, множились бы, как головы Гидры, доколе у чудовища не вырвано сердце. При ее жизни вы в собственном королевстве не могли спокойно вздохнуть, а народ жил в смертельном страхе.
Толпа не проронила ни вздоха. Он помолчал и продолжил так же ровно и спокойно:
— Ныне мы показали Папе, королям Испании и Франции, отцам-иезуитам, дьяволам из Дуэ, всему миру, сколь высоко мы ценим нашу веру, нашу страну, нашу королеву. Ныне мы обезвредили «английское дело», католическое возрождение на этих берегах! Ныне все знают, что Англия — протестантская страна и останется протестантской, пока море омывает этот остров! Мадам, помните Латимера, сожженного на костре во дни вашей сестры, как он в огне утешал собрата? «Возвеселись, мастер Ридли, — сказал он, — и будь мужчиной, ибо мы ныне запалим в Англии такую свечу во славу Божию, которая, уповаю, никогда не угаснет!» Ваша милость хранит эту драгоценную свечу, и мы все, да, каждый из нас отдаст жизнь, чтобы ее не погасили.
Он спокойно подобрал длинную бархатную мантию.
— Я же принимаю свою отставку — нет, свое бесчестие как почетную награду из ваших рук, принимаю с радостью. И смею ручаться, что, поразмыслив, ваша милость увидит и поймет, что наше деяние было необходимо и предначертано рукою Божьей. Велите казнить меня за эти слова, я от них не отрекусь!
Он поклонился и, не поворачиваясь ко мне спиной, медленно отступил, и за ним все, шаг за шагом, а я осталась рыдать.
Теперь все были против нас. Началась охота, и Англия, бедная трепетная Англия, загнанная могучими ловчими, отбивалась из последних сил.
Это снова было Марииных рук дело, даже из могилы она продолжала со мной бороться.
В предсмертном письме она завещала английский трон своему дорогому испанскому кузену, теперь в глазах всех католиков Англия принадлежала Филиппу. И Его Католическое Величество, король Испании и Нидерландов, Rex Anglorum[15] шел требовать свое.
А что Яков Шотландский, спросите вы, ее сын, разве не к нему перешли ее притязания?
С женой можно развестись, с мужем тоже, но кто властен развестись с собственным ребенком? Кто бы, кроме Марии, попытался? В завещании она обошла родное дитя в угоду полоумному испанцу, которого и в глаза-то не видела.
А Филипп, ополоумевший от старости и злости, утрат и поражений, принял брошенную перчатку. Он утвердится в законном праве, он возглавит крестовый поход против королевы еретиков, королевы-еретички.
Однако у нас не умирала надежда выиграть другими средствами. Той весной я по-прежнему чувствовала себя калекой — медленно-медленно отходила я после Марииной смерти. Не сразу, но я простила Берли и остальных, вернула их ко двору. А в начале лета произошло событие, которое разом вернуло мне силы. Вновь передо мной стоял плимутский коротышка и докладывал, как исполнил мое последнее повеление. Над залысым лбом озорным нимбом светился легкий пушок редеющих волос.
— Ну, сэр Фрэнсис, я приказала вам грабить их, грабить, грабить. И Дрейк полез в драку с королем Испанским?
В больших синих глазах блеснули озорные искорки.
— Мы наконец-то отдраили их хорошенько!
В Кадисе мы сожгли больше тридцати семи кораблей!
Я прыснула со смеху:
— Значит, вы подпалили испанскому королю бороду!
— Без сомнения — и весьма ощутимо! После этого, бороздя просторы испанских морей, мы захватили и сожгли еще не меньше сотни. А когда, по пути к Азорам, проходили мимо мыса Сан-Висенти, — он невинно закатил глаза, — случайно наткнулись на «Сан-Фелипе»…
Я подалась вперед, кровь прихлынула к лицу.
— Что, «Святой Филипп»? Плавучая сокровищница самого короля?
— Да, Ваше Величество, да! — Он довольно хохотнул. — Корабль был так нагружен шелками, пряностями и серебром, что еле держался на плаву. — Словно фокусник, он крутанул в пальцах сверкающую монету. — И кроме изумрудов, рубинов, сапфиров, опалов и жемчугов, я привез сто пятьдесят тысяч братишек и сестренок вот этой особы, чтобы сложить их к вашим ногам, — вы ступите на золотой ковер!
Как я ликовала! Берли привел ростовщика, Палавичино.
— Скажите Ее Величеству то, что сказали мне.
Итальянец поклонился, пощипал ус:
— С утратой «Сан-Фелипе», Ваше Светлейшее Величество, король Испанский утратил и доверие европейских кредиторов — никто не даст ему в долг меньше чем под восемнадцать — двадцать процентов!
Вне себя от радости, я жадно подалась вперед:
— А мне?
— Под восемь процентов, светлейшая, и ставки падают. Вы нанесли смертельную рану по главной артерии, снабжающей его золотом.
Я рыдала от счастья. Эта победа подарила нам мирное лето — мирное и радостное…
Должна сказать вам — такой радости я не испытывала ни раньше, ни потом. А первое лето с Робином, спросите вы? Оно давно изгладилось из памяти, он меня оставил, а теперь? — теперь был другой «он», юный Эссекс, он был со мною, он был моим.
Я и сейчас вижу, вот он склоняет ко мне стройный стан, вот шагает ко мне своей стремительной походкой, вижу его чистый взгляд, открытое сердце, распахнутое ко мне со всем жаром юноши девятнадцати весен от роду, — кто бы устоял?
Значит, ему было девятнадцать, а мне — столько, сколько было. Что с того? Мы не переходили никаких границ, он меня развлекал, забавлял, ничего больше.
Все это лето были чудные прогулки меж пышных роз и жимолости, долгие беседы за полночь, когда лишь мы двое бодрствовали средь сонной стражи и припозднившихся придворных. Его не тянуло спать, он уходил к себе с первыми птицами, и то лишь затем, чтобы переменить камзол и снова спешить ко мне…
О, это было чудно, он был такой чудный, такой чудный-пречудный…
Лишь одно портило наше счастье, впрочем, на мой усталый вкус, скорее придавало ему пряность. Рели ревновал и тем ожесточеннее добивался моего расположения! Он отправил в Новый Свет корабли — открывать обещанную «Виргинию», край своей мечты, — и наказал морякам привезти мне чудовищ, индейцев, какие-нибудь занятные дары. И в один прекрасный день он, сверкая синими глазами, с церемоннейшим поклоном вручил мне истинную диковинку.