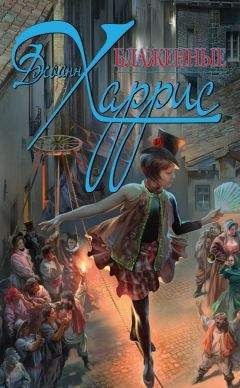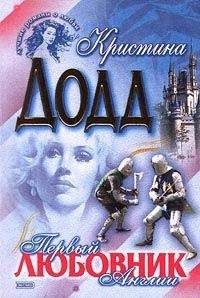Ознакомительная версия.
Нет? Какая жалость! Глава твои как разящие клинки. Ладно, ладно! Я чуток присочинил о схватке с Леборном. Я тоже взялся за нож, да сплоховал, и мерзкий карлик пырнул меня первым. Слушай, при тебе я в жизни святошей не прикидывался. Обстоятельства сильнее человека. Когда-то ты, моя жар-птица, это понимала. Ради нас обоих надеюсь, что понимаешь и сейчас.
Хочешь выдать меня? Милая, а ты в силах? Нет, посмотреть было бы презабавно, но сперва хорошенько подумай. Кто из нас больше рискует? Кто играет убедительнее? Я ведь и тебя убеждал, помнишь? Бумаги мои в порядке. Мне на счастье, священник, прежний их владелец, попал в Лотарингию, на закате въехал в лес и внезапно занемог, вроде живот у него схватило. Бедняге повезло: страдал он недолго. Я сам закрыл ему глаза.
Жюльетта, Жюльетта, откуда столько подозрений? Честное слово, я предан нашей маленькой Анжелике. По-твоему, для настоятельницы она слишком юна? Церковь с тобой не согласна. Церковь прибрала к рукам эту крошку — вместе с приданым, разумеется, — до неприличного жадно. И, как всегда, не прогадала: приумножатся и золото в ее сундуках, и земли в ее владении. Столько благ в обмен на крохотную уступку, на далекий, утонувший в песке монастырь, настоятельнице которого позволили ослабить дисциплину лишь потому, что она здорово растила картошку.
Ну вот, отвлекся, обязанности свои позабыл. Милые дамы… или нужно говорить «сестры»? Или даже «дщери», чтобы звучало по-отечески? Пожалуй, нет. «Дети мои»? Да, так лучше. В дымном сумраке часовни их глаза сверкают, как у черных кошек. Шестьдесят пять черных кошек, моя новая паства. Чудно, в них даже запаха женского нет. Мне ли не учуять этот аромат с нотами рыбы и цветов? Нет, от этих разит лишь ладаном. Святые небеса, неужто они не потеют? Ничего, вскорости я это исправлю.
— Дети мои! Скорбь и радость великая привели меня к вам. Скорбь о нашей почившей сестре… — Как бишь ее? — …Марии и радость от великих свершений, начало которым мы с вами положим сегодня же.
Ну вот, незатейливо, но действенно. Ишь глаза выпучили! И что я о кошках подумал? Они же мыши летучие — морщинистые лица, незрячие глаза навыкате, черные крылья за сутулыми спинами, руки скрещены на плоской груди, точно в попытке скрыть от меня запретные формы.
— Вслед за дочерью своей Изабеллой я говорю о серьезнейшем обновлении. Пройдет оно на таком уровне, что вся Франция обратит на нас взор, благоговейного трепета полный.
Пора кого-нибудь процитировать. Сенека подойдет? «Путь к добродетелям крут и тернист», так вроде? Нет, Сенека не для летучих мышей. Тогда из «Второзакония». «И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь»[16]. Не устаю восхищаться, что в Библии сыщешь оправдание всему на свете — и блуду, и кровосмесительству, и убиению младенцев.
— Дети мои, сбились вы с пути истинного, впали в грех лукавства, забыли священный обет, данный Отцу нашему.
Такой бы голос да актеру-трагику! Пьесу «Великий отшельник» я написал десять лет назад, а черед ей настал лишь сейчас. Глаза мышей вылезают из орбит. Теперь в них не только страх, но и проблески возбуждения. Да, мои слова явно раззадоривают.
— Подобно жителям Содома, вы отвернули от Него лица свои. Ублажали вы тела свои, а благодатный огонь в сердцах погас. Лелеяли вы мысли тайные, предавались тайным порокам. Но Господь вас видел.
Пауза. Летучие мыши ропщут — каждая припоминает свои греховные мысли.
— Я вас видел.
Даже в полумраке заметно, как бледнеют морщинистые лица. Мой голос крепнет, разносится по часовне так, что вот-вот зазвенят стекла.
— Я и сейчас вас вижу, хоть со стыда прячете вы лица свои. Безгранична суетность ваша, а грехи ярче свечей часовню озаряют.
Хорошо сказано, нужно запомнить, пригодится, когда сяду писать новую трагедию. Так-так, иных уже проняло. Тебя, толстуха с глазами на мокром месте. Губы дрожат — вот-вот разрыдаешься. Заметил я, как ты, потвора, вздрогнула, когда малютка упомянула пост.
А ты, мрачная с лицом обезображенным? Ты чем грешна? Близехонько стоишь к своей пригожей соседке, в полумраке тянешься к ее ручке. Слушаешь меня, а сама на нее поглядываешь, почти невольно, аки скупец на злато свое.
А ты… Да, ты, за колонной! Точно робкая кобыла, возводишь глаза к небу, а губы ходят ходуном. Безмолвно взываешь ко мне, стиснула пальцами грудь. Каждое слово мое наполняет тебя негой и страхом. Знаю, о чем ты мечтаешь, о самоистязании. Как исступленно упивалась бы ты сперва болью, потом покаянием.
А ты? Дыхание сбилось, щеки горят явно не от праведного пыла. Моя первая последовательница не сводит с меня глаз, протягивает ко мне руки. «Одно прикосновение, — молит она, — один-единственный взгляд, и стану тебе рабою». Не так скоро, милая. Поиграем еще: я нахмурюсь, чтобы померкло пламя свечей, потом ниспошлю луч надежды на спасение — смягчу голос в ласкающем слух монологе.
— Но милость Господня, как и гнев Его, бесконечна. Одна заблудшая овца, вернувшаяся в стадо, Ему дороже многих послушных. — Чушь несусветная! По опыту знаю, за все свои терзания заблудшая овца попадет прямиком на воскресный стол. — Сказано в «Книге пророка Иеремии»: «Возвратитесь, дети-отступники… Потому что Я сочетался с вами… и приведу вас на Сион»[17].
На миг обращаю взор к своей последовательнице. Дыхание сбилось окончательно — еще немного, и она лишится чувств.
Первое действие окончено. Набросал им избитых фраз, аки манны небесной, а теперь антракт, пусть усваивают. Я показал, что могу быть и суровым, и ласковым. Теперь покачнусь, поднесу руку к глазам, устал, дескать, притомился в долгой дороге, человеческие слабости мне не чужды. Ретивая сестра — Альфонсина вроде бы — тотчас протягивает руку, по-собачьи заглядывает в глаза. Я тихонько отстраняюсь. Никаких фамильярностей, милочка! По крайней мере, пока.
Лемерль! Я тотчас узнала его стиль — лицедей, проповедник и уличный торговец непостижимым образом слились в одном человеке. И маскировка очень в его манере. Я заглянула ему в глаза. Этот выразительный блеск мне хорошо знаком, Лемерль словно хотел разделить со мной свой успех. Сперва я удивилась, что он меня не выдал.
А потом поняла: мне отводилась роль восхищенного зрителя или критика. Что толку распинаться, если некому оценить дерзновенность его самозванства? Только сей раз я под его дудку не пляшу. От послеобеденной работы на солончаках не отвертеться, но едва получится улизнуть — мы с Флер убегаем. Снедь возьму на кухне, а деньги… У сестер воровать не след, но в подвальной кладовке хранится сундучок с монастырской казной. Замок на двери кладовки давным-давно сломался, но его так и не заменили. Покойная мать настоятельница простодушно полагала, что от воровства лучше всего защищает доверие, и за пять лет в монастыре не припомню, чтобы кто-то украл хоть монетку. Впрочем, к чему монахине деньги? Все необходимое здесь есть.
Ознакомительная версия.