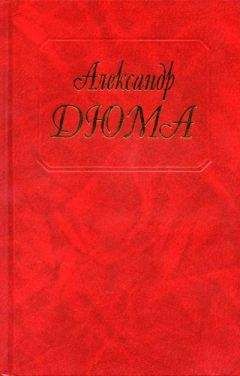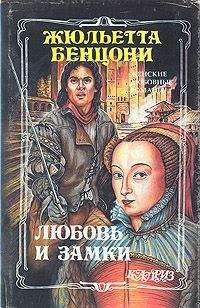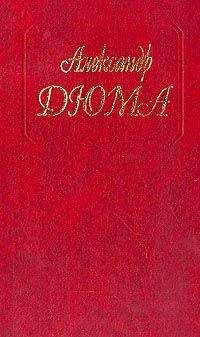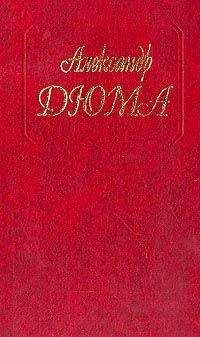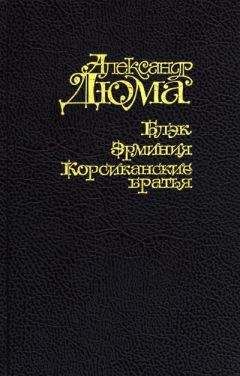XIII
УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ
А теперь да будет позволено нам взять слово; от этого рассказ только выиграет, ведь нам легче поведать о превосходном человеке, которого мы только что вывели на сцену, и сказать то, о чем он сам умолчал бы из скромности.
За семь лет до того дня, как открылся перистиль долгой истории, с которой мы бесстрашно взялись познакомить вас, эта самая комната, обитель виолончелиста, очаровавшая двух друзей своей простотой, совсем не была похожа на ту, какой она стала теперь.
Вместо белого муслинового занавеса, скрывавшего кровать и придававшего алькову вид часовенки; вместо выкрашенной под мрамор и стоящей на камине статуэтки Девы Марии, простирающей руки над обитателями этой комнаты в вечном благословении; вместо двух канделябров с розовыми свечами, похожими на церковные, — словом, вместо всего того, что сообщало комнате покой и навевало сосредоточенность, в этой комнатенке с низким потолком, тяжелыми плитами на полу, тесной, холодной, сырой, не было ни душистых цветов, ни певчих птиц, ни обивки, ни обоев.
Единственные украшения на стенах — старый офорт, репродукция «Меланхолии» Альбрехта Дюрера, и висевшее напротив небольшое квадратное зеркало в раме желтого дерева, а над ним — две ветки букса в форме креста. Комнату разделяла зеленая саржевая занавеска, прибитая гвоздями к балке на потолке; она ниспадала до самых плит, покрывавших пол; несомненно заботливая рука набросила это покрывало, пряча от посетителей удручающее зрелище нищенского ложа.
Одним словом, комната эта служила самым убогим, самым тоскливым приютом, какой только можно было вообразить. Сердце сжималось от жалости у всякого, кто сюда попадал: ничто не радовало глаз, все пропахло нищетой, потолочные балки, сгибавшиеся под тяжестью уже лет триста, грозили вот-вот обвалиться, воздух был тяжелый, гнилой.
Прорубленное в двери окошко усиливало сходство с темницей.
Это была не то чтобы келья сурового монаха-отшельника, а скорее одиночная палата помешанного.
Стол из старого дуба; черная деревянная доска, на которой можно было писать мелом; пюпитр с объемистой тетрадью, несомненно содержавшей произведения Генделя или псалмы Марчелло; довольно длинная скамья, на которой могло усесться восемь-десять человек; высокий табурет; плетеный стул — вот и вся скудная обстановка комнаты, такой же голой, как и ее стены.
Принадлежала комната бедному школьному учителю квартала Сен-Жак.
В те времена, то есть в 1820 году, ему удалось благодаря своему редкому терпению организовать в предместье небольшую школу для детей.
За скромную плату (пять франков в месяц, да и те ему платили не всегда аккуратно) он взялся обучать по собственной программе чтению, письму, Священной истории и четырем правилам арифметики; но в действительности его программа была гораздо шире.
Он был сыном бедного провинциального фермера; его послали учиться в коллеж Людовика Великого в десятилетнем возрасте, и он попал в руки к умному преподавателю, сразу распознавшему в мальчике редкие способности и жажду знаний.
Этот преподаватель, скромный и славный человек преклонных лет, но юный душой, подобно дереву, был способен пустить побеги и дать плоды под солнцем; но, лишенный воздуха и живительных соков, он захирел и зачах за сырыми, мшистыми стенами коллежа… Спустя год он подружился с любимым учеником и привязался к нему, словно отец к младшему сыну.
Вот так же и он тридцать лет назад приехал в Париж из провинциальной глуши и почувствовал себя неуютно среди этого общества в миниатюре, называемого коллежем, оказавшись в окружении маменькиных сынков, юных богачей; он, бедное дитя, как и его будущий юный ученик, в котором он видел точную свою копию, не раз пожалел о зеленой тропинке, что вела на отцовскую ферму; не раз проливал он горькие слезы, вспоминая вольный воздух родной стороны. Наконец, как и его будущий ученик, он смирился с настоящим, забыл прошлое и с головой окунулся в учение, ступив на тернистый путь науки, где даже самый проницательный нередко натыкается на неразрешимые задачи, на неизвестные теории.
Вызывающее невольную симпатию сходство бедности, ума и одиночества сразу — кажется, мы уже говорили об этом — внушило старому преподавателю глубокую привязанность к маленькому Жюстену (так звали ученика).
Проливая на него первые капли знаний, он старался смягчить их горечь, протягивал ему руку, помогая в первые дни учебы преодолевать непроходимые заросли, заботливо раздвигал острые колючки и жгучую крапиву; его забота не знала границ, когда он прокладывал ему дорогу, идя впереди нехожеными тропами в эту неведомую для мальчика страну знаний.
И Жюстен относился к старику с сыновней нежностью, с признательностью и почтительностью преданного ученика.
Как только звонок возвещал рекреацию, Жюстен запихивал книги и тетради в лавочку (так называют свою сумку ученики коллежа), в два-три прыжка пересекал двор и — то ли он не находил никакого удовольствия в рекреациях, то ли у него не было друзей среди сверстников, то ли единственным его товарищем, единственным другом был старый преподаватель — сейчас же мчался в его комнату и между ними завязывалась приятнейшая беседа.
Они говорили об истории, о мифологии, о путешествиях, обсуждали произведения поэтов древности или великих художников.
Если веселый солнечный луч врывался вдруг в комнату, принося с собой воспоминание о полях, аромат лесов, стихи Вергилия и Гомера, двух великих жрецов природы, расцветали у них на устах, подобно полевым апрельским цветам: старик, восхищенно воспринимавший поэтов через природу, учил мальчика понимать природу через поэзию.
Самые приятные часы недели приносило им в полах своей белой туники воскресенье.
Зимой у камелька, летом в лесах Версаля, Мёдона, Монморанси — они имели право весь этот день провести вместе.
О, с каким нетерпением они ждали воскресенья все шесть дней! С каким наслаждением пускались в долгие споры!
Иногда учителя заходил проведать старый товарищ, иногда Жюстен получал из дому письмо, и они перечитывали его по десять раз, — одним словом, всегда находилась тема для поучительного или интересного разговора.
Если случайно — что бывало раза два-три в год — учи́теля приглашали на какую-нибудь церемонию, на официальный обед к директору лицея или чиновнику университета, куда нельзя было взять ученика, мальчик в такие дни гулял со своим сверстником, таким же одиноким и бедным, но настолько же своевольным, насколько Жюстен был покладист.
Это был чуть ли не единственный его товарищ в коллеже, и не потому, что Жюстену не нравились другие ученики, — напротив, он был готов полюбить хоть целый свет, но его все отвергали.