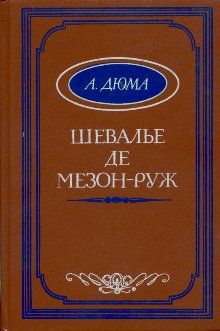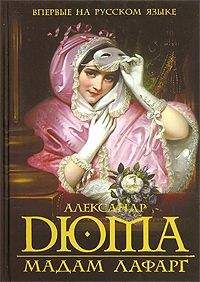– Извините, но я не хочу играть с вами, – сказал Пикассо и накрыл ладонью ее пальцы под стойкой бара. – Только скажите, что вы позволите мне снова увидеть вас.
– А как же мадам Пикассо?
– Как выяснилось, у Фернанды появился новый любовник, юный хлыщ из Германии. Мои друзья думают, что я ничего не знаю. Они пытаются оградить меня от переживаний и хотят лишь одного: чтобы я и дальше занимался живописью. Все, что угодно, лишь бы сохранить мир и выгодно продавать мои картины. Но я-то знаю обо всех приключениях Фернанды!
– Это слишком опасно для меня, – Ева покачала головой. – Я действительно не хочу вмешиваться в ваши отношения.
– Увы, mi belleza[19], но мне кажется, что вы уже это сделали.
Когда их столик наконец был готов, Аполлинер настоял на том, чтобы Ева села рядом с ним, и они еще немного побеседовали о поэзии и поэтах, которые ей нравятся. Потом, в свою очередь, он собирался раскрыть ей, как ему удалось написать некоторые самые загадочные и часто трудные для понимания стихи. По словам Аполлинера, разговор с человеком, который понимает его искусство, доставит ему огромное удовольствие. Пикассо сидел напротив нее между Жерменой и Рамоном. В течение всего обеда, несмотря на разделявшее их расстояние, он почти не сводил глаз с Евы. Она ощущала его взгляд даже в те моменты, когда Аполлинер делился своими откровениями о поэзии и наркотиках.
– Вы когда-нибудь писали о любви? – спросила она, после того как официант принес блюдо с террином[20].
– Я никогда не был влюблен, – он вздохнул. – Только похоть, не более того. А я взял за правило писать лишь о том, что хорошо знаю.
– Это выглядит благоразумно. Думаю, я тоже никогда не была влюблена, – Ева тихо рассмеялась, понимая, что это не так.
– По словам Фернанды, вы тоже родом из Польши, мадемуазель Умбер?
– Там познакомились мои родители. Мой отец француз, а мать – полячка. Мы жили там, когда я была ребенком, а потом отец привез нас во Францию.
Разговор был удивительно непринужденным, если принять во внимание, что она беседовала с человеком, чьими стихами так давно восхищалась.
– На самом деле, меня зовут Ева Гуэль, но здесь, в Париже, я отказалась от этого имени. Хочу посмотреть, что может предложить жизнь парижской девушке, которую зовут Марсель Умбер.
– О да, такое имя гораздо ближе для парижан. Впрочем, оно кажется не вполне настоящим из-за вашей чудесной польской улыбки. А мое настоящее имя совсем не поэтично: Вильгельм Костровицкий, но как собрат по крови буду надеяться, что вы не станете рассказывать об этом, – он добродушно рассмеялся.
– Фернанда сказала, что она тоже называла себя разными именами после приезда в Париж.
– Включая мадам Пикассо.
– Вы этого не одобряете? – спросила Ева.
– Если и не одобряю, то не смею говорить об этом. Фернанда Оливье – это сила, с которой следует считаться. И она определенно не из тех, кому можно перечить.
С другой стороны стола внезапно донесся чарующий голос Фернанды. Она говорила Луи, что придумала ему имя, и с завтрашнего дня он должен называть себя Маркуссисом. Она считала, что это превосходное имя обязательно принесет ему удачу.
– Буду считать, что вы меня предупредили, – обратилась Ева к Аполлинеру.
– Вы ее новая подруга, поэтому вам не о чем беспокоиться, – с тихим горловым смешком произнес он и взялся за нож и вилку. – До тех пор, пока вы ей нравитесь.
– Ну, Пабло Диего Руис-и-Пикассо, что за дьявол в тебя вселился? Будь я проклят, если ты не пьян в стельку! – проворчал Макс Жакоб, отступив от распахнутой двери своего кирпичного дома на бульваре Барбес.
– Я в порядке, – пробормотал в ответ Пикассо, пока коляски и автомобили проносились на улице за его спиной. Его глаза налились кровью и как будто смотрели в разные стороны. – Где у тебя вино?
– Боюсь, у меня его нет, старина. Звучит знакомо? – поддразнил Макс. Он никогда не упускал возможности поговорить со старым другом на равных. Макс дал Пикассо первую крышу над головой в Париже, одолжил ему несколько сантимов, когда тот нуждался в деньгах, покупал ему еду. Теперь он считал, что это давало ему право на вольности, которое имели лишь немногие другие знакомые художника.
– Тогда где твой эфир? Я знаю, это у тебя есть, – речь Пикассо была невнятной.
– Каким бы другом я был, если бы сказал тебе? – Макс перехватил руку Пикассо, когда тот потянулся к ящику секретера. – В последний раз я хватил через край, амиго. Два дня назад я очнулся перед домом в луже собственной рвоты, а бродячая кошка вылизывала меня. Такое поэтичное переживание наставляет на путь истинный. Клянусь тебе, я навсегда отказался от этой дряни.
Макс говорил об этом как о пустяке, но на самом деле он уже давно вел тщетную борьбу с наркотиками. Два года назад, когда Фернанда и Пикассо перестали курить опиум, Макс, как будто наперекор им, добавил к растущему списку своих вредных привычек еще и эфир.
– Мне нужно поговорить о Фернанде, а из всех наших друзей ты меньше всего расположен к ней, поэтому будешь со мной честен.
– Ты хочешь сказать, что я меньше всего подвержен ее соблазнам, – Макс фыркнул и закрыл дверь.
– Да, если хочешь.
– Пожалуй, это имеет большее отношение к моим сексуальным предпочтениям, чем к моему благоразумию, non ami. Она никогда не имела чувственной власти надо мной. Впрочем, как и все остальные, я признаю ее неопровержимую красоту.
– Я не уверен, что теперь она владеет моими чувствами.
Макс отступил на шаг, словно получил пощечину, и опустился в обшарпанное кресло возле угольного камина.
– Вот дерьмо. Право же, не ожидал услышать это от тебя.
– Я тоже.
Пикассо провел ладонью по лицу и горестно застонал. Он устал, запутался и определенно был недоволен собой. Все эти чувства были ему отвратительны из-за их патетичности. Только внутренняя сила имела значение и возбуждала его как в отношениях с женщинами, так и в живописи.
– Фанни Телье снова позировала тебе? – с подозрением в голосе спросил Макс, когда они устроились рядом в старой гостиной, изобиловавшей декоративными папоротниками. Окна были закрыты тяжелыми бахромчатыми занавесками, а вдоль стен выстроились книжные полки.
– Дело не в ней и не в ком-то еще, – солгал Пикассо. Упоминание о Еве казалось ему предательством в отношении неопытной девушки, впрочем, не лишенной соблазнительного темперамента. – И не в Фернанде, а в предсказуемости нашей жизни, в наших постоянных метаниях, – он вздохнул. – На самом деле, я не знаю. К тому же речь идет о моей работе. Никто, кроме Канвейлера, не понимает мои новые картины. Все хотят урвать кусочек моего успеха, но никому нет дела до того, что стоит за ним.