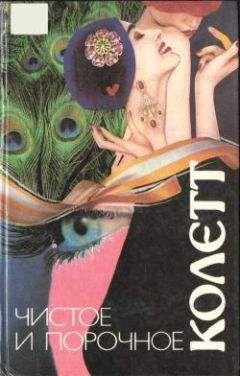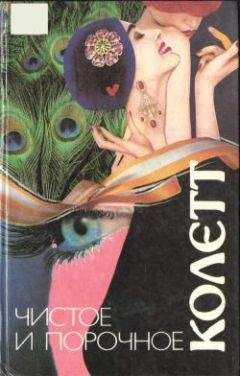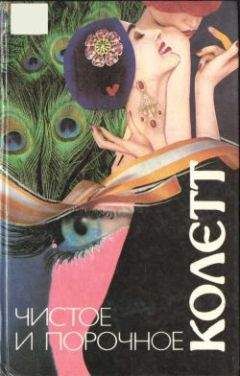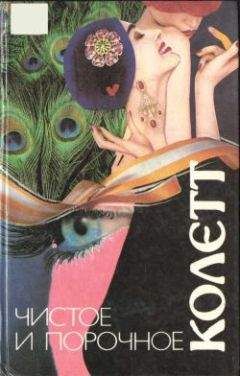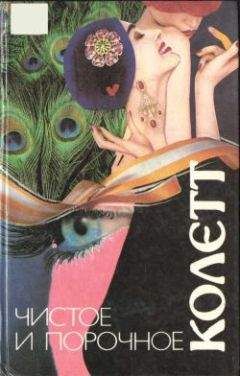– Чудовище – это ты.
– Не понял?
– Да, ты. К сожалению, я не умею это объяснить, но уверяю тебя, что не ошибаюсь. Да, я хотела избавиться от Сахи. Это не очень красиво, согласна. Но убить то, что мешает или причиняет страдания, – это первое, что приходит в голову женщине, особенно женщине ревнующей. А вот ты – действительно случай особый, явление уродливое, ты…
Она силилась изъяснить свою мысль, тыча пальцем в то, что в наружности Алена являло, по случаю, свидетельство исступления ума: оторванный рукав, трясущиеся губы, с которых готова была слететь брань, побелевшие, как мел, щёки, всклокоченные, вздыбленные немыслимым хохлом волосы… Он не стал спорить, не стал защищаться – казалось, он хотел постичь нечто, и прочее перестало существовать для него.
– Если бы я из ревности убила или собиралась убить женщину, ты, вероятно, извинил бы меня. Но я подняла рук на кошку и, стало быть, я дурной человек. И ты удивляешься, что я называю тебя чудовищем…
– Разве я говорю, что удивляюсь? – заносчиво перебил он.
Она растерянно посмотрела на него, безнадёжно махнула рукой.
Хмурый, отчуждённый, он провожал взглядом ненавистную руку в перчатке всякий раз, как она приходила в движение.
– Так что же мы решим на будущее? Как нам быть, Ален?
Он едва не застонал от переполнявшей его неприязни, едва не крикнул ей в лицо: «Будем жить врозь, будем молчать, спать. Дышать друг без друга! Я уйду далеко, очень далеко: под эту вишню, например, под крыло этой чёрно-белой сороки, под радужный веер этого разбрызгивателя… Либо в мою холодную спальню, под защиту маленького золотого доллара, пригоршни обломков прошлого и кошки породы "шартре"…»
Однако он овладел собой и невозмутимо солгал:
– Пока ничего. Слишком рано решать… бесповоротно… Подумаем позднее…
Эта новая попытка выказать умеренность и готовность к обсуждению лишила его последних сил. Он споткнулся, едва ступив несколько раз, когда пошёл провожать Камиллу, ухватившуюся с безумной надеждой за это подобие примирения.
– Да-да, конечно, слишком рано… Подождём немного… Не провожай, я прекрасно дойду до ворот сама… При виде твоего рукава вообразят ещё, что мы подрались… Послушай, я, может быть, съезжу поплавать в Плуманак, к брату и свояченице Патрика… От одной мысли, что придётся сейчас жить у родителей…
– Поезжай в родстере, – предложил Ален.
Она покраснела, рассыпалась в изъявлениях благодарности.
– Как только возвращусь в Париж, сразу верну его тебе. Тебе самому может понадобиться… Так что заберёшь без церемоний… Я, кстати, сообщу тебе о своём отъезде… и о возвращении…
«Уже прикидывает, уже латает прорехи, наводит мостики, уже клеит, зашивает, чинит… это ужасно. Неужели именно это и ценит в ней мать? Вероятно, это бесценное качество. Я уже не в состоянии более ни понимать её, ни вознаграждать за благодеяния. Как непринуждённо она чувствует себя там, где мне невыносимо!.. Поскорее бы она ушла, поскорее бы…»
Она уходила, не решившись протянуть ему руку, но под сводом подстриженной зелени отважилась коснуться его – ничего, впрочем, не добившись – своими налившимися грудями. Оставшись один, он без сил повалился на садовое кресло и тут же, чудесным образом возникнув, на столик из ивовой лозы вскочила кошка.
Отойдя уже на некоторое расстояние, на повороте дорожки Камилла увидела в прогалине листвы кошку и Алена. Она сразу остановилась, словно борясь с желанием воротиться. Но она замешкалась лишь на мгновение и сразу ускорила шаги, ибо, если чуткая Саха по-человечьи провожала её взглядом, то Ален, полулёжа в кресле, подбрасывал и проворно ловил согнутой по-кошачьи ладонью первые августовские каштаны, одетые зелёной колючей кожурой.
По французским народным поверьям скрещённые ножи приносят несчастье. – Здесь и далее примечания переводчиков.
Старинные французские монеты имели посередине отверстие.
Нёйи – западный квартал Парижа, где расположено много богатых особняков.
Пюже, Лоиза (1810–1889) – французский композитор, сочинительница романсов.
«Любовь в ночи» (англ.)