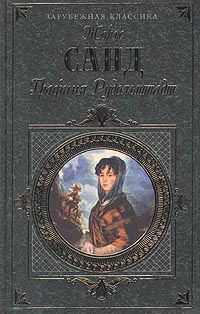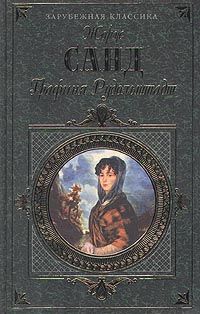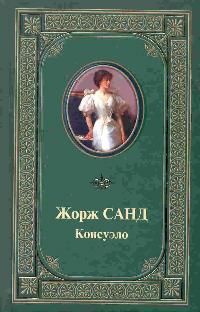– А другие члены вашей семьи, господин барон, – продолжала спрашивать Консуэло, – не могла бы я узнать…
– Да, вы все узнаете… – перебил ее Фридрих. – Все узнаете… Кушайте, синьора, вы, наверное, голодны.
– Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради Бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из близких?
– Никто не умер, – ответил барон таким мрачным тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род.
И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какой проделывал это в замке Исполинов. У Консуэло не хватило больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, который был более голоден, чем встревожен, силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот старался отвечать ему так же любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но такое напряжение было, очевидно, не под силу барону. Он то и дело отвечал невпопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он нарезал себе громадные куски, доверху наполняя свою тарелку и стакан, но делал это лишь по привычке. Он не ел и не пил; уронив вилку на пол и уставившись на скатерть, он явно находился в самом плачевном состоянии. Консуэло, наблюдавшая за ним, прекрасно видела, что он не пьян. Она спрашивала себя, что могло вызвать эту внезапную расслабленность – несчастье, болезнь или старость? Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, с растерянным видом порывшись в карманах, после длительных поисков извлек распечатанное письмо и подал его Консуэло. Оно было от канониссы, она писала:
Мы погибли, брат! Больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль, наконец, приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, питает надежду, но слабую; он совсем упал духом, и это приводит меня в отчаяние, так как я далеко не уверена, что смерть племянника – единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли! Переживем ли мы оба такие бедствия? Перенесу ли я их – не знаю. Да будет воля Божья, вот все, что я могу сказать, но я не чувствую в себе силы устоять перед таким ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привезти нам немного бодрости, если она еще сохранилась в вас после вашего собственного горя – горя, которое мы считаем своим и которое довершает несчастья нашей словно проклятой семьи. Какие же мы совершили преступления, чем заслужили такую кару? Избави меня Бог потерять веру и покорность воле его, но, право же, бывают минуты, когда я говорю себе: «Это уж слишком!».
Приезжайте же, братец, мы ждем вас, вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до одиннадцатого. У меня к вам странное поручение. Мне кажется, что, передавая его, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого числа, в семь часов вечера будьте на Пражском мосту, у подножия статуи. Остановите первую проезжающую карету и особу, которую вы увидите в ней, везите к себе, и если эта особа сможет в тот же вечер выехать в замок Исполинов, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае, он уверяет, что ему откроется тогда вечная жизнь. Я не знаю, что он под этим подразумевает. Но его откровения в течение этой недели относительно самых непредвиденных для всех нас событий сбывались таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться: либо у него дар пророчества, либо он ясновидящий. Нынче вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, который теперь можно скорее угадывать, нежели слышать, поручил мне передать вам то, что я в точности привела здесь. Будьте же одиннадцатого числа, в семь часов, у подножия статуи, и кем бы ни оказалось лицо, которое вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда.
Прочитав письмо, Консуэло, такая же бледная, как барон, внезапно вскочила, но тотчас снова упала на стул и несколько минут просидела не шевелясь, беспомощно опустив руки и стиснув зубы. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впавшему в какое-то оцепенение:
– Так что же, господин барон, готова ваша карета? Я готова, едемте!
Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать: карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но действовал он как автомат, и, если бы не Консуэло, он бы уже забыл об отъезде.
Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь, он тоже побледнел, не смог произнести ни слова и в тяжелом, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основания упрекать себя в том, что случилось. Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был бы предвидеть. И, терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, пораженный удивительной силой предвидения, открывшей больному способ снова увидеть Консуэло, он думал, что ему снится странный и страшный сон…
Но так как в некоторых отношениях он был чрезвычайно расчетлив и упорен, то вскоре стал обдумывать, возможно ли осуществить внезапное решение Консуэло и каковы будут его последствия. Он страшно взволновался. Начал бить себя по лбу, стучать каблуками, хрустеть всеми суставами, считать на пальцах, вычислять, размышлять и, наконец, вооружившись мужеством и рискуя вызвать вспышку гнева со стороны Консуэло, сказал, встряхнув ее, чтобы она опомнилась:
– Ты хочешь ехать туда – согласен, но я еду с тобой. Ты хочешь видеть Альберта – что ж! Быть может, ты нанесешь ему последний удар, но отступать немыслимо, и мы поедем. В нашем распоряжении есть два дня. Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Нам надо быть у прусской границы восемнадцатого, иначе мы нарушим договор. Театр открывается двадцать пятого. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить огромную неустойку. У меня нет и половины нужной суммы, а в Пруссии того, кто не платит, бросают в тюрьму. А когда ты попадаешь туда – о тебе забывают, оставляют на десять – двенадцать лет, умирай там от горя или от старости, уж как тебе угодно. Вот какая судьба ждет меня, если ты забудешь, что из замка Исполинов надо выехать четырнадцатого, не позднее пяти часов утра.
– Будьте спокойны, маэстро, – решительным тоном ответила Консуэло, – я уже думала обо всем этом. Только не огорчайте меня в замке Исполинов, – вот все, о чем я вас прошу. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра.
– Поклянись!
– Клянусь, – ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. – Раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва.