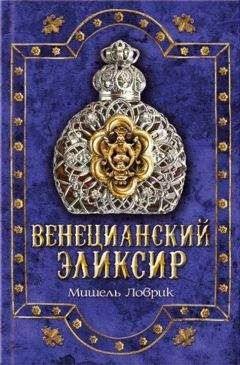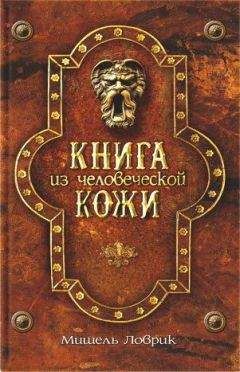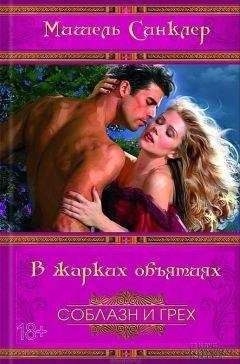– Гай Валерий Катулл… Клодия, дочь Аппия, супруга Квинта Метелла.
Я поклонился, спрашивая себя, слышала ли она уже обо мне.
Помню, как она искоса взглянула на меня, помню красно-коричневую радужку с быстрым черным зрачком, помню взмах густых тяжелых ресниц. Звякнув изумрудными серьгами, она низким, глубоким голосом лениво протянула нечто неразборчивое, отчего мне пришлось наклониться к ней.
Сердце замерло у меня в груди, а потом жарко затрепетало, колотясь о ребра. Я вдруг ощутил в неподвижном воздухе запах молнии (и она действительно разорвала свинцовые небеса часом позже, так что гости брели домой по залитым лужами улицам).
Но гроза пока что таилась лишь в моем воображении, и на мгновение мое дыхание смешалось с дыханием Клодии. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, она медленно оглядела меня с ног до головы и быстро зашагала прочь, так что груди ее тяжко заколыхались под туникой, искусно заколотой роскошной агатовой брошью. И только тогда я заметил, что подол ее уже перепачкан соками сточной канавы.
Она оглянулась лишь один раз и исчезла, растворившись в толпе важных мужчин в самом сердце сборища. Я заметил, как ее брат – сходство было поразительным – притянул ее к себе и что-то прошептал ей на ухо. В молочно-белом лунном свете я стоял как вкопанный, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, а по коже бегают мурашки, пока начавшийся ливень не загнал меня под журчание струй на крытую галерею. Там уже раздавались голоса моих собратьев-поэтов, но они доносились до меня, как сквозь стену. Возвращаясь домой, я без конца повторял ее имя. Проливной дождь хлестал меня плетью, а тонущее небо над головой хаотично расчерчивали зигзаги молний.
С самого начала я сказал себе, что любовь стоит столько, сколько ты готов заплатить за нее. Подобно всем прочим, я предпочел не сидеть в присутственном месте, изливая свои чувства в расчете на справедливое вознаграждение. Когда через два дня после ужина у Аллия она прислала гонца, я понесся по все еще исходящему паром холму к ее дому в привилегированном районе Кливус Викториа на западном склоне Палатинского холма, задыхаясь от крутого подъема и предвкушения, как и многие до меня. Я бежал так, словно ступал по раскаленным угольям, стремясь к ослепительно-белому свету. Волосы мои были умащены праздничными благовониями, а запястья вновь покрылись гусиной кожей.
По пути наверх я миновал храм Кибелы [10], стены которого по обыкновению содрогались от пронзительных завываний и лихорадочного боя барабанов. Нет, Люций, я не расслышал грозного предостережения в этой какофонии! Это ты наверняка проникся духом ее величия, поскольку живешь в Малой Азии, где Великая Мать пользуется уважением и почитанием. Но здесь, в утонченном и развращенном Риме, культ Кибелы вызывает одни лишь насмешки. Тот факт, что по-прежнему находятся мужчины, готовые подражать ее ученику и последователю Аттису [11], отрезая себе достоинство каменным ножом, вызывает у нас одно лишь отвращение. Как бы там ни было, уверяю, что мысль о том, чтобы изуродовать себя, даже не пришла мне в голову, когда я промчался мимо шумного храма к дому Клодии.
Достигнув ее залитого дождем сада, я заставил себя перейти на шаг и медленно пошел мимо курящихся паром цветов. У ворот меня встретил еще один слуга. Не поднимая глаз, он приветствовал меня и молча провел в комнату, где меня ждала его госпожа. Поначалу, ошеломленный представшим мне зрелищем, я даже не заметил, что она вольно раскинулась на оттоманке. Подо мною в миниатюре лежали вся власть и могущество Рима. Дом Клодии возвышался над форумом [12], где, без сомнения, замышлял и претворял в жизнь свои интриги ее брат Клодий, пока я стоял и смотрел на него. Это здание возносилось над палатами и храмами, и до его террасы не долетало ни звука их шумной жизнедеятельности. Я слышал лишь треск цикад и тихий шорох шагов слуг. Отсюда Рим казался игрушечным, построенным только для того, чтобы им управляла Клодия.
– А вот и поэт.
Звук ее холодного голоса, в котором сквозило ленивое изумление, заставил меня обернуться. Я вздрогнул от неожиданности: наряд ее был весьма скудным. Взгляд мой упал на терракотовую масляную лампу, стоявшую на столике рядом с нею. Лампа была искусно изготовлена в форме крылатого пениса.
– Против черного сглаза? – набравшись смелости, осведомился я.
– Таково ее обычное предназначение, – уклончиво протянула в ответ она.
Она не сочла нужным встать, дабы приветствовать меня, а лишь приглашающим жестом погладила подушечку рядом с собой и улыбнулась. Подойдя ближе, я разглядел, что подголовник ее оттоманки украшают резные изображения гиен.
Последовал обмен ничего не значащими любезностями, а потом она поразила меня тем, что отдалась мне без всяких церемоний, словно акт этот не имел для нее никакого значения.
Но я никогда не забуду оттоманку на крытой галерее ее дома, то, как под стрекот цикад я в первый раз поцеловал ее и распустил пояс ее широкой накидки, и легкий трепет воздуха, поднятый крылышками ее ручного воробья. Птичка без устали кружила над нами, намереваясь опуститься на нас всякий раз, когда мы замирали в неподвижности. Я помню, как в ушах у меня отдавался шорох крылышек, а крошечные коготки царапали мою спину. Царапины, которые я обнаружил там впоследствии, вполне могли остаться после этого.
Мне кажется, что все происходило очень медленно, потому что я не спешу, мысленно представляя себе первый день, который обнаженная Клодия провела в моих объятиях. Все происходящее походило на долгий и неторопливый пир с девятью или десятью переменами блюд. Одни насыщали меня до отвала; другие лишь разжигали аппетит в предвкушении того, что должно было последовать за ними. Спустя некоторое время я перестал тревожиться о том, что нам могут помешать. По тому, как сосредоточенно Клодия занималась со мной любовью, я понял, что она устроила все таким образом, дабы насладиться мною сполна, испытать мою силу и свести предварительное знакомство. Оттоманка то представлялась мне бассейном, в котором она вознамерилась утопить меня, то парила над землей. Я оставался у нее до тех пор, пока над нами не взошла тусклая ущербная луна. Слепая ночь таращилась мне в спину, пока я, едва переставляя ноги, брел домой.
Объятия ее были страстными и горячими; ростом она почти не уступала мне, сытая и полная сил. Сладость ее дыхания смешивалась с изысканным запахом благовоний, которыми она умаслила волосы и брови. Я задыхался в этих ароматах и тонул в объятиях ее рук, которые скорее исследовали мое тело, нежели ласкали его. Груди ее оказались тяжелыми и куда менее отзывчивыми, нежели я себе представлял, но ощутить в своих ладонях то, о чем я лихорадочно мечтал последние сорок восемь часов, было для меня достаточной наградой. Я вполне отдавал себе отчет в том, что она старше меня по меньшей мере на пятнадцать лет. Но вместо того, чтобы внушить мне отвращение, факт сей лишь заставил меня почувствовать себя взрослым, словно я не просто вступил в пору зрелости, но и Рим, а с ним и весь мир раскрылись передо мной. Как-то вдруг все мои подростковые желания и увлечения воплотились в грубую и приземленную мужскую похоть.
Ее холодность… очаровывала и пленяла. С самого первого мгновения она опьянила меня и вскружила мне голову, и я влюбился в каждую часть ее тела, как и все прочие до меня. Точно так же, как все те, кто был у нее раньше, и те, кто будет потом, я смущенно вспоминаю, как меня распирала словоохотливость. Я сгорал от нетерпения поведать всему миру о том, что спал с нею, и еще более красноречиво описать, как уже начал страдать от этого. В тот вечер я написал свою первую поэму.
Но был ли я счастлив тогда? Хоть на мгновение? Быть может, когда впервые ворвался в нее? Если ты обратил внимание, я говорю лишь о ее теле, а не о словах. Мы не обменивались ласковыми глупостями, и губы наши были заняты тем, что терзали друг друга. Все происходило как-то обезличенно и бесстрастно. Даже жар наших объятий угасал в ее суровом молчании. Она не издала ни единого стона; единственным признаком того, что я сумел преодолеть ее froideur [13], стала одинокая капелька пота на верхней губе. Но даже и та могла принадлежать мне и сорваться с моего залитого слезами лица; я, видишь ли, всегда плачу в самый последний момент. То были слезы предвидения, хотя, слишком занятый и утомленный, я не мог осознать, о чем плачу.

![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](https://cdn.my-library.info/books/187346/187346.jpg)