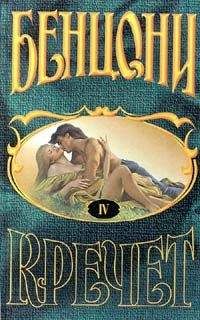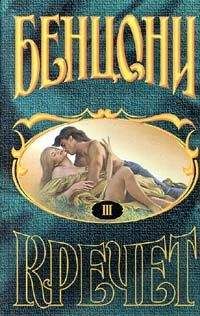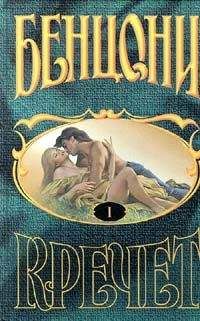Едва парусник поравнялся с островом Груа, Жюдит почувствовала себя ужасно, заперлась в каюте и на протяжении всего пути не сделала из нее ни шагу — до того измучила ее морская болезнь. Поразительно, что этот недуг настиг дочь волн, с самых юных лет привыкшую, как любой ребенок в Бретани, чуть ли не жить в лодке. Было чему удивляться: у юной сирены — Жиль не мог забыть, как вынырнула Жюдит сентябрьским вечером из вод Блаве, — вполне обычное небольшое волнение на море вызывало неудержимую рвоту, а дочь крестьянина из Обервилье Фаншон, сроду не видавшая океана, с самого отплытия держалась уверенно, как бывалый моряк.
Каждое утро Жиль стучал в дверь каюты жены, чтобы узнать о ее состоянии, и каждое утро Фаншон или Розенна отвечали ему одно и то же, да он и сам чувствовал по кислому запаху, неизменно ударявшему в нос, едва открывалась дверь, что лучше Жюдит не становится.
Причем молодая женщина категорически отказывалась с ним увидеться, даже на мгновенье.
Такое упорство невозможно было объяснить одной лишь заботой о том, как она выглядит. В ее возрасте ни бледность, ни круги под глазами, ни растрепанная прическа не могли даже в малой степени нанести урон столь совершенной красоте, и, стоя ночи напролет у штурвала парусника, летящего меж черным небом и волнами. Жиль пытался так и этак найти подход к разрешению загадки по имени Жюдит.
От самого Парижа она не сказала ему и десяти слов: сначала все дремала, а теперь разболелась, так кстати, что, не подтверди Розенна ее недомогание, он бы не поверил. Жюдит могла затаить на него злобу за то, что он ее похитил — Жиль вполне допускал это — и за то, что он так жестоко раскрыл ей глаза на истинную сущность человека, в которого она была слепо влюблена, — не случайно же на протяжении нескольких месяцев она принимала его за несчастного доктора Керноа, хотя собственными глазами видела, как тот пал в день ее венчания от руки братьев, Тюдаля и Морвана де Сен-Мелэн.
Такая любовь могла быть только следствием гипноза, а значит, явлением неестественным, Турнемин знал об этом и потому сожалел теперь, что так безжалостно повел себя с Жюдит, неожиданно предоставив ей неопровержимые доказательства лживости и подлости самозваного супруга. Истина не могла не оскорбить самолюбия гордячки, и вот теперь она, чувствуя себя униженной, не желала видеть того, кто открыл ей эту истину…
Турнемин лишь боялся, как бы страсть к подлецу, выдававшему себя за Керноа, не оказалась сильнее рассудка, сильнее гордости Жюдит. Тогда ей долго не удастся избавиться от наваждения, если удастся вообще. Теперь все зависело от того, насколько глубоко проник яд, и, если болезнь неизлечима, ни мира, ни согласия между ними не будет никогда: Жиль и Жюдит обречены прожить остаток жизни, отвернувшись друг от друга, в ненависти…
Как-то раз вечером, когда они были уже на полпути к цели, Розенна, начав, как обычно, без всяких предисловий, положила конец бесчисленным вопросам, на которые он не находил ответа. Она сама нашла его в кают-компании, где он заперся, чтобы изучить по картам очертания побережья Виргинии. Он вообще с самого отплытия часто погружался в премудрости навигационной науки, стараясь восполнить пробелы в знании морского дела.
— Я знаю, почему твоя жена отказывается тебя видеть, — сказала старуха.
Он поднял на нее глаза: кормилица выглядела спокойной и уверенной в себе, в танцующем свете свечей она походила на безмятежное домашнее божество — руки сложены на животе, большой белый фартук, на голове чепец из белого муслина, словно на седые волосы, стянутые на затылке в узел, опустилась бабочка. Однако лицо ее, в веселых морщинках, не улыбалось, и хорошо знавший свою няню Жиль различал в серо-голубых глазах старой женщины тревогу и печаль.
— Думаю, и мне это известно, — вздохнул Турнемин. — Она злится на меня за то, что я положил конец ее любовным приключениям, злится и ненавидит. Это естественно…
— Нет, у нее другая причина, тоже естественная, но другая: она тебя боится.
— Боится? Чем же я ее напугал? Что еще она там вообразила? Что я собираюсь выбросить ее за борт подальше от берега, чтобы отомстить за поруганную честь? Так я бы уже сто раз успел, да и вообще, если убивать, это надо было сделать полгода назад, теперь я успокоился, а хладнокровное убийство только погубит мою душу.
— Тут ты прав, но вдруг твой покой будет нарушен снова? Что, если ты не знаешь, как поругана твоя честь?
— Что ты имеешь в виду?
— Что жена твоя беременна, а это вряд ли тебя обрадует.
Повисло тяжелое молчание. Лицо Жиля оставалось бесстрастным, но карандаш в его пальцах переломился пополам. Он в раздражении отшвырнул обломки, нервным движением схватил свернутые в трубочку карты, скатившиеся со стола на пол от легкого крена судна, и, наконец, поднял на Розенну светлые глаза, сверкнувшие холодно, как лед под луной:
— Ты уверена?
— Верней не бывает: через семь месяцев госпожа де Турнемин произведет на свет ребенка, которому ты не отец.
Последние слова она произнесла с озлоблением, и Жиль понял, какие чувства обуревают старую женщину. Мало того, что супружеская неверность вызывала у нее отвращение, она еще тяжело переживала унижение своего мальчика — ведь она его вырастила и любила, как родного сына.
— Что будешь делать? — спросила Розенна, и в ее голосе зазвучали слезы.
Облокотившись на стол, Жиль принялся осторожно тереть глаза, почувствовав вдруг, как они устали, а потом на мгновение прикрыл их ладонями. Снова наступила тишина, нарушаемая лишь плеском воды о борт корабля и легким поскрипыванием снастей.
— Не знаю, — сказал он и внезапно встал.
Сделал несколько шагов по каюте, заставленной шкафами с картами. — И, честно говоря, даже не представляю, что тут можно сделать.
— Другими словами, ты позволишь «этой» произвести на свет незаконнорожденного ублюдка? И дашь ему свое имя?
Жиля поразил свирепый тон кормилицы. Он посмотрел на нее с удивлением, словно видел впервые в жизни.
— Что за выражения? Сам-то я кто?
— Тут другое: господин де Турнемин не знал о твоем рождении. Ты дитя любви, а не супружеской измены. И отец твой, и мать были из порядочных бретонских семей. А в ее ребенке течет кровь сицилийского распутника. И ты не имеешь права давать ему имя, что завещал тебе, умирая, отец.
— А кто тебе сказал, что я собираюсь давать ему свое имя? За кого ты меня принимаешь, за глупца?
— Нет, за влюбленного, то есть за человека, способного на любые безумства.
Жиль остановился у окошка, повернувшись спиной к старухе, и стал наблюдать, как вскипает на гребне черной волны белая пена.