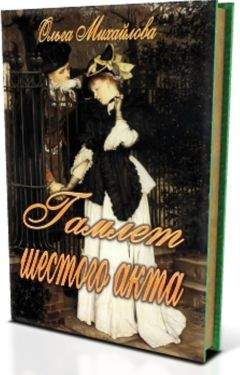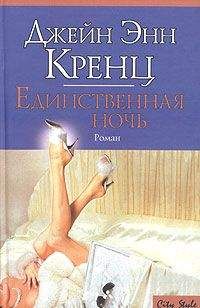— А несчастная девушка? Сестра содомита и самоубийцы…
— Мистер Доран, решение за вами. Только думайте быстро. Я слышу голоса вверху на Уступе. Может, посоветоваться с его сиятельством?…
— Но ведь в первом случае… вас могут счесть… пусть не виновным, но…
В глазах Коркорана полыхнуло пламя. Теперь эти глаза куда как не казались сонными.
— Бросьте, Доран. Любого, кто осмелится это сказать, я, наплевав на все принципы, публично сделаю своей любовницей, и он получит то, чего добивался этот. Я лишён слезливой сентиментальности. Что вы так смотрите на меня? — взъярился он вдруг, подойдя вплотную к священнику, — Вы что, считаете, я должен был уступить ему? Вымазать дерьмом храм Господень? Ответьте мне, Патрик!
Глаза его сверкали. Доран вздохнул.
— Перестаньте, Кристиан. Ничего я не считаю.
— Слава Тебе, Господи! А то подумал было, что вам самому весьма близка мысль о его петухе в вашей заднице…
— Чушь, — брезгливо отмахнулся Доран, в другой час он взбесился бы на подобные слова, но не сейчас, — но просто, поймите, у девушки будет испорчена жизнь, если все всплывёт — таких вещей все сторонятся.
— И правильно делают, Патрик, очень правильно делают. Ну да, не хочу давить на вас. Это не мой монастырь, и не мои тут уставы. Это дом графа Хеммонда — и не мне решать, что делать. Когда находишься в Риме, поступай как римляне.
Они сами не заметили, как перешли на имена. Гибель мистера Нортона странно сблизила их, заставив принимать одно решение на двоих, решение, которое либо было предельно истинным, но и предельно жестоким, либо было милосердным, но лживым. Мистера Коркорана эта антиномия ничуть не волновала. После эмоционального всплеска, вызванного фразой Дорана о его возможном обвинении, он снова окаменел в вялом спокойствии. Однако снизошёл до того, чтобы уточнить свою позицию.
— Я отвечаю за то, что сделано мной в свободном волеизъявлении, по моему распоряжению, или хотя бы — с моего молчаливого согласия. Но я его с уступа не сталкивал, ничего ему не приказывал и самоубийства не одобрял. Меня живым вынули из мертвой утробы, но я весьма далёк от того, чтобы считать жизнь своей собственностью. Этот же возомнил себя вправе… — Он презрительно махнул рукой. — Он заслужил ад как содомит и как самоубийца. Нужно сказать правду.
Голоса сверху доносились все отчетливей.
— А как же христианское всепрощение, Кристиан?
— Что? — мистер Коркоран искренне изумился, даже отпрянул.
— Вы не можете ему простить? Не согласны скрыть позор? Вы что, не христианин?
Глаза мистера Коркорана снова блеснули молнией.
— Я-то — безусловно, христианин. Но причём тут всепрощение? Если вы, отче, обыскав на досуге весь библейский свод, найдёте там слово «всепрощение» — я съем подошвы собственных сапог! Но сейчас речь не о моей вере. Либо мы оглашаем все обстоятельства — либо утаиваем их. Я, повторяю, сторонник истины.
— И вы готовы обнародовать записку? Всплывут все обстоятельства… И судьба несчастной девочки вас не волнует?
— Это разные вопросы и одного ответа на них у меня нет. Я же сказал, Патрик, решение за вами. Вы — служитель Господа и вы старше. Я подчинюсь вашему решению. — Он присел на пень рядом с трупом, — кстати, как это ни удивительно, этот человек сказал правду… — проронил он. — «Я не могу жить без вас…» Истинно нельзя жить только без Того, кто является Жизнью по сути. Нет Господа — нет и жизни… так… эрзац. Но разве эти ничтожества понимают это? — он поморщился, потом, помолчав, проронил, — я не знаю, откуда берется это искажение плотского влечения, но ощути я в себе подобное, просто затворился в глухой норе где-нибудь на перевале Сен-Готар… Смог же Арчибальд остаться человеком!! Но почему эти жалкие ничтожества поддаются подобным вожделениям?
— Не все же могут быть монахами в миру…
— Не все… — согласился мистер Коркоран, и снова вяло вопросил, пришёл ли наконец мистер Доран к какому-либо решению?
Клиническое спокойствие Коркорана странно подействовало на Дорана. Он тоже пришёл в себя и снова внимательно вгляделся в Коркорана. Да, ничего не скажешь — он не был сентиментален и не жил в искусственном мире абстракций, выхолощенных понятий и умозрительных представлений, в котором пожизненно поселяется большинство людей. Его поведение не шло вразрез с традициями, но проступало истинностью там, где солгали бы самые честные. Он не искал у других одобрения, принимал полную ответственность за свои действия, но был совершенно лишен чувства вины.
Однако Доран принял иное решение. Половинчатое.
— Записку спрячьте. Правду скажем сестре несчастного и Лайонеллу. Они, в некотором роде, заинтересованные стороны. А там подумаем.
— Хорошо, будь по-вашему. Но чувство странное… — Коркоран посмотрел на труп, — Знаете, я пережил однажды тяжкое искушение. Мой приятель… Я гостил у него на Рождество. Он располагал собственными деньгами, рано женился и по приезде познакомил меня с женой. Я мысленно ахнул. Это была… вокзальная буфетчица. Грубое лицо, вульгарные манеры, речь кокни. На партию в вист зашёл его друг, живший по соседству. Я снова ахнул. Я не физиономист, но эти бегающие глаза и крысиная физиономия… Супруга приятеля начала строить мне глазки через четверть часа после приезда. Я пошёл на хитрость. Приказал груму отправить из соседней деревушки письмо… самому себе, где от имени управляющего срочно вызвал себя в имение. Через два месяца приятель пустил себе пулю в лоб. Его жена сбежала с тем самым его другом, похожим на крысу. В прощальном письме он написал, что «не может пережить предательства любимой и друга…»
На его похоронах вне кладбищенской ограды меня и настигло мерзейшее искушение, Доран. Мы не выбираем родителей и родственников, — он усмехнулся, — тут ничего не попишешь. Но уж любимых и друзей — выбираем мы. Многие костерили его супругу и любовника. Вздор… окруживший себя ничтожествами… Мне безумно хотелось плюнуть на его могилу и изо всех сил пнуть её ногой. Вот и сейчас… испытываю странное искушение пнуть ногой это животное, для которого желания его растленной задницы были высшим законом любви. — Он поднялся. — Извините, я пойду лучше навстречу спускающимся…
Отец Доран судорожно вздохнул и кивнул.
Что и говорить, Гамлет, переживший пятый акт, был существом, повергающим в трепет. Священник долго задумчиво смотрел вслед удаляющемуся Коркорану, ощущая, как заледенело у него сердце. Когда Коркоран бестрепетно обыскивал мертвеца, ему стало страшно. Тот был лишен физической брезгливости, никогда и ни к чему не выказывая отвращения, прикасался к покойному, как к кукле, не обнаруживая эмоций, гадливо же морщился только от мерзости духовной. Но последние слова… Нет, это был не артистизм. Он не играл. Ханжество и лицемерие были совершенно несвойственны этому странному существу, открыто обнаруживавшему свои потаённые чувства, как благие, так и не делавшие ему чести. Но главное…