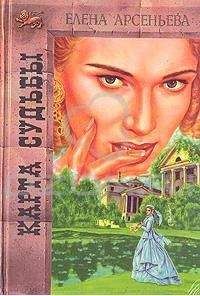Природа кругом была уныло однообразна, однако Юлия постепенно стала находить свою поэзию в этих затуманенно-белых полях; отсыревших, дрожащих березовых рощах; в этих желто-зеленых хвойных островках; в горьковатом запахе можжевельника, которым напоен был воздух; в этой чужой, мертвенной тишине, нарушаемой лишь шевелением нагих ветвей да чавканьем копыт по раскисшей земле. А если задуматься, что каждым шагом своим конь все далее уносил ее от Варшавы, от расплаты за убийство Яцека, от воспоминаний о Цветочном театре, от позорных притязаний Сокольского, приближая к незанятым мятежниками российским землям, где — Юлия не сомневалась — она тотчас отыщет отца с матерью, — если задуматься об этом, то тяготы пути были не так уж и тягостны.
Но вот нынешний день что-то неудачен выдался! Как ни крепилась Юлия, чувствовала она себя из рук вон плохо: зыбкая поступь коня по разъезженной дороге вызывала мучительную тошноту. Ах, если бы лечь! Но впереди нигде ни признака корчмы, хотя, по рассказам, она уже с час как должна была появиться. Не сбились ли они с пути? И спросить не у кого: случалось, днями проезжали странницы, не встретив ни единой живой души.
— Эй! Эгей! Добрый человек!
Истошный крик Ванды нарушил сонное оцепенение Юлии, и она вскинулась, вгляделась в белесую мглу: и впрямь обочь дороги тащится какая-то согбенная, уродливая фигура. Огромный горб возвышался на плечах, и Юлия прикусила губу, чтобы не закричать от ужаса: призрак Яцека медленно приближался к ней, словно бы порожденный ее нечистой совестью, нездоровыми, сырыми миазмами чужой, враждебной земли…
При звуке женского голоса призрак горбуна замер, затоптался неловко, словно примеряясь, как бы это половчее провалиться сквозь землю, потом с явной неохотой выпрямился — и Юлия ахнула, когда горб его свалился с плеч и плюхнулся в расквашенный сугроб. Горб оказался изрядным вьюком, а призрак Яцека обернулся заморенным мужичонкою, который, сдернув треух и понурив голову, покорно ждал, пока к нему приблизятся вельможные пани.
Юлия оглядела его изморщиненное лицо, ветхую одежонку и подумала: жаль, что у нее своих денег ни гроша, но, может быть, Ванда не поскупится на мелкую монетку для этого несчастного за те сведения о дороге, кои он им сообщит?
Ванда принялась деловито расспрашивать, и выяснилось, что сведения сии весьма для путешественниц неприятные: они сбились с пути, и теперь, чтобы добраться до корчмы, им надлежало воротиться на версту — то есть как раз к тому месту, где Юлия свалилась с лошади, — а потом поехать не влево, а вправо. Теперь же им не предстояло на пути ни единой корчмы: только еще через три версты должен был появиться замок пана Жалекачского.
При этих словах Юлия с робкой надеждой оглянулась на Ванду. Замок! Уж, наверное, чистые простыни и ванна там есть. А отпираться от ненужных расспросов они научились весьма виртуозно. Что же медлит Ванда? Почему на лице ее такое сомнение?
— Этот Жалекачский, — спросила она осторожно, — пан добрый?
Легкая судорога прошла по лицу крестьянина:
— Эге ж, добрый пан. А чего ж? Пан — он пан и есть.
— Проезжалых он жалует или с порога отправляет? — допытывалась Ванда.
— Не, гостей он любит! — оживился крестьянин. — А пани его — того больше.
— А, так он женат! — успокоенно вздохнула Ванда.
— Да уж какой раз! — не без тонкости усмехнулся крестьянин, и Ванда опять озабоченно свела брови:
— Сколько, говоришь, до его замка? Три версты? А до корчмы, ежели возвращаться назад? Не более одной или двух с половиною? Нет, уж лучше мы назад поедем, правда, Юлишка?
Юлия разочарованно вздохнула. Она слишком худо чувствовала себя, чтобы спорить. Конечно, лучше еще час терпеть тряскую пытку, чем два, а то и больше. Поэтому она покорно принялась заворачивать коня, однако тут же стон, исторгнутый крестьянином, заставил ее оторопеть:
— Христе, помилуй! Пречистая, помилуй! Дай умереть!
Взор крестьянина был с отчаянием устремлен на дорогу, и девушки с испугом оглянулись, ожидая увидеть военный отряд или, как малость, десяток вооруженных чем попало разбойников: в те поры множество обездоленных войною людей скиталось по дорогам, обирая и убивая беззащитных проезжих, — и были немало изумлены, разглядев одинокого всадника.
— Но он один! — воскликнула Ванда. — К тому же явно шляхтич, а не русский! Чего ты всполошился?
— Шляхтич! — горестно обронил крестьянин. — А что проку в том нам, полякам, литвинам, белорусам? Шляхта называет нас быдлом, а русские хотя бы относились к нам как к живым людям!
Сердце Юлии так и рванулось к невзрачному мужичонке. Она потянулась схватить его заскорузлую лапу, потрясти с благодарностью, но он сего не заметил: глядел с тоской на дорогу, повторяя:
— Борони Боже! Да ведь это никак пан Фелюс… Ну, пропала моя голова!
Всадник приблизился, и его тощая кляча с видимым удовольствием остановилась. Кунтуш [38], судя по виду, принадлежал еще прадеду невзрачного господина, который снял побитую дождем шапку перед дамами, обнажив полысевшую голову с прилипшими к ней жалкими кустиками волос и отвесил некое подобие поклона:
— Мое почтение, наипенкнейшие [39] паненки! Добрый путь!
Юлия едва сдержалась, чтоб не прыснуть, однако Ванда величаво выпрямилась в седле:
— Добрый путь и вам, вельможный пан.
Шляхтич сладко улыбнулся ей, но глаза его с вожделением были устремлены на крестьянина, испуганно тискавшего шапку в руках.
— Это ты, хлоп! — выкрикнул всадник, и в голосе его было спесивое пренебрежение ко всякому, не облеченному шляхетским званием. — Как смеешь ты отравлять воздух рядом с дамами своим зловонным духом?
— Да мы сами его остановили дорогу спросить! — заикнулась было возмущенная Юлия, но крестьянину ни к чему было ее заступничество: он с радостью схватился за свой мешок, явно намереваясь поскорее отправиться восвояси. Да не тут-то было: шляхтич, будто невзначай, поиграл нагайкой и лукаво спросил:
— А что это у тебя, хлоп, в мешке?
Крестьянин медленно распрямился:
— Да так, пан… пустой мешок-то!
— Пусто-ой?! — удивился пан Фелюс. — Что ж ты его, воздухом надул, что он такой пузатый?! И, гляжу, тяжелый! Может, в нем каменюки, не то земля с полей пана Жалекачского?
И расхохотался, петушась в седле, красуясь перед девушками и призывая их посмеяться вместе с ним над глупым хлопом, с которым пан Фелюс играл, будто кот с мышью. Но путешественницы смотрели на крестьянина с жалостью, уже не сомневаясь, что последует затем. И они не обманулись — как с первой минуты не обманывался в своих предчувствиях и сей горемыка: пан Фелюс велел развязать мешок и с завистью воззрился на изрядный окорок и узел с зерном, заботливо обернутый дерюгою: