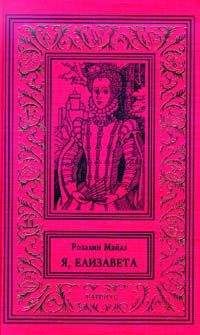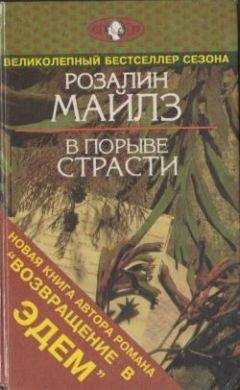И пусть со всех амвонов во всеуслышание объявят, что ребенок — незаконный. Еще вина! За здоровье моего лорда и моего архиепископа и, разумеется, за здоровье моего секретаря!
В ту ночь мы славно повеселились. Однако меньше чем, через минуту я получила жесточайший урок, жесточайшее напоминание, что черный пес-Крушенье всегда бежит следом за своим золотым братом-Торжеством. Ибо вскоре страшные вести из Франции вытеснили из моей головы всякую мысль о Екатерине — вести о поражении и смерти. В этой войне мы потеряли кучу денег, мне до сих пор больно об этом вспоминать. Мы потеряли Гавр и надежду вернуть Кале. Мы потеряли тысячи английских храбрецов и доброе имя Англии, лишь жалкие остатки нашего воинства вернулись назад под изорванным и окровавленным стягом Амброза. Я рыдала у Робина на плече и слегла с мигренью, с болью в животе и в половине лица, где мучительно ныл и дергал еще один зуб.
Тогда ли я недодумала, недослушала, когда граф Леннокс прислал из Шотландии человека с просьбой отправить ему в помощь сына, чтобы вместе требовать от королевы Шотландской возвращения отнятых в приграничных войнах земель? Или просто сдалась на уговоры, когда все вокруг просили отпустить Дарнли в Шотландию?
— Чего вы боитесь, миледи? Что королева Шотландии выйдет за него замуж? — смеялся Робин, замедляя шаг, чтобы подать мне руку, когда мы по мокрой гальке шли из дворцовой церкви с праздника святого Стефана. — Да она никогда не выйдет замуж без вашего согласия, ведь тогда прости-прощай обещанное преемство!
— Но она наверняка хочет взглянуть на него! — возражала я, старательно обходя мокрые декабрьские сугробы, чтобы не замочить лайковые башмачки и узорчатый бархатный плащ. — Брак с ним укрепил бы ее притязания на английский трон и помог бы усидеть на шотландском, ведь в нем кровь Тюдоров и Стюартов!
— Весьма вероятно, — заметил идущий слева от меня Сесил. — Но даже если ей занятно на него взглянуть, в наших интересах окружить ее возможно большим числом искателей. Хотя Филипп Испанский по-прежнему не торопится женить дона Карлоса, Трокмортон пишет мне из Парижа, что королева-регентша сватает королеву Шотландскую за французского мальчика-короля, своего сына Карла.
— За ее бывшего деверя?!
Тень моего отца и его первой Екатерины, Екатерины Арагонской, — как он взял тогда за себя вдову брата Артура, преступил записанный в книге Левит запрет и какие горести из этого проистекли!
— Ах, французы! — Возмущению моему не было предела. Я тоже полагала, юнец Дарнли рубит сук не по себе, что Мария не обратит на него внимания, а если и обратит, то, здраво поразмыслив, откажет.
«Пусть едет», — говорили все.
Никогда еще два слова не воспламеняли такой огромный пороховой погреб, как в тот миг, когда я согласилась с этим «пусть едет».
Чье ты, дитя-Желанье?
Отец мой — пышный Май.
Кто мать твоя, мой сладкий?
Гордыня, почитай.
Ужель тебя, Желанье,
И годы не убьют?
Умру и вновь рождаюсь
По тыще раз на дню…
Как мужчины теряют голову от любви?
А женщины?
Нет, не спрашивайте меня, не знаю. В жизни не теряла даже наперстка, а головы и подавно. Когда я любила Робина, я обретала любовь, любовь, которая была со мною всю жизнь, которой я дышала, как воздухом, с той поры, когда мы вместе резвились в Божьем саду, покуда по прародительскому примеру не впали в греховную человеческую страсть.
Но терять голову от любви?
Нет.
Так что такое любовь?
Если не безумие, может быть, голод? Вкус к неведомому яству, аппетит к еще неиспробованному, влечение к неизвестному, но узнаваемому по первому сладкому дуновению?
Одно я знаю — величайшая любовь в жизни приходит не первой. Есть разные роды любви — девическая влюбленность, телесная страсть, телесный голод, потом зверский голод любви, — и все их надо испытать, испробовать, вкусить, покуда придет величайшая.
Кэт рассказывала, как терзался голодом мой отец — когда угасла его любовь к первой королеве, когда он спал один в Расписном покое Уайтхолла и не входил на королевину половину; когда стала сказываться роковая разница в годах. Королева уже и без зеркала видела, какой глубокий след оставили сорок зим на ее желтоватой коже испанки. Жестокая природа состарила ее до срока; она похоронила всех своих детей, кроме моей сестрицы Марии. Ей пришлось пережить все семь проклятий женского рода: младенцы умирали и разлагались в ее утробе и появлялись до срока бесформенными выкидышами. Хуже всего было рожать мальчиков, которые проживали по несколько дней, успевая заронить надежды — всякий раз ложные. Немудрено, что спина ее согнулась от бесконечных беременностей, от горя, сгорбилась от покорности судьбе.
А Генрихов голод требовал удовлетворения.
Неприкаянный, словно планета на небосводе, король переезжал с места на место, из дворца во дворец по пыльным дорогам и узким аллеям между Вестминстером, Ричмондом и другим его излюбленным приютом — Савойским дворцом.
За ним следовали послы и посланники, тайные советники и придворные, добрые друзья Сеффолк, Кари, Норрис и другие. Сейчас они были королю гораздо ближе королевы и уж конечно он любил их не в пример больше.
Смеясь, дурачась, возясь, как мальчишки, они отвлекали Генриха от горестных мыслей, Екатерина же всем своим скорбным и жалким видом напоминала о его беде.
— По коням! — кричал он на заре; сражался на ристалище, гонял зайцев и борзых как одержимый. По ночам плясал, словно у него пляска святого Витта, без устали прыгал и подскакивал выше всех придворных весельчаков.
— Еще! — приказывал он. — Еще! Больше!
Больше!
Или метал кости, словно в него вселился сам дьявол, проигрывал золото, как медяки. И обжирался. Смотрители королевских кухонь тщетно пытались наполнить эту прорву — говядина, барашки, перепела, каплуны и аисты, павлины, пеликаны и поросячьие ножки царственной процессией устремлялись в разверстый монарший зев.
И с каждым проглоченным куском его величие только возрастало.
«Когда он шествует, земля дрожит и люди дивятся!» — восклицал путешественник, племянник немецкого графа.
«Красивейший и утонченнейший из земных властителей!» — вторил другой поклонник.
Однако голод его не унимался.
Этот голод могла насытить только женщина.
Ранним утром первого мая 1526 года, когда королевины фрейлины возвращались с веселья, Генрих приметил одну, державшуюся особняком. Сквозь оконный переплет он подглядел, как она бросила букет алых и белых майских цветов, отвернулась от веселых подруг и пошла сама по себе.