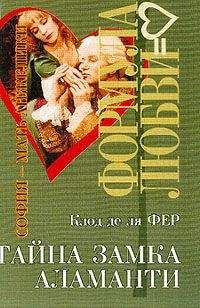– Ты мне… поможешь? – спросил он с надеждой в голосе.
– Только этим, – ответила я и показала взглядом за спину его.
Там уже выросла аккуратная, соснового дерева, хорошо обтесанная и крепко сбитая П-образная виселица. Под верхней перекладиной болтала на легком пустынном ветру добротная морской пеньки веревка, свернутая в петлю и смазанная жиром. Под петлей располагалась столь же аккуратная, сосновая скамейка.
Иегуда поднялся на ноги, погладил свои ожившие руки. Все это он делал, не отрывая глаз от меня. Потом с усилием во всем теле развернулся, на секунду застыл, увидев свой последний приют, и, бороздя ногами песок, поплелся к виселице.
Он знал теперь, что приговор мой воистину милосерден. Ибо умрет он от удушья, то есть наяву тело его будет найдено без особо заметных следов насильственной смерти. Те, кто не станет осматривать труп Иегуды внимательно, решат, что умер он от старости. Или от разрыва сердца. Или от кровоизлияния в мозг. Люди всегда на ходят объяснения непонятному.
Те же, кто знает, почему Иегуда оказался в летаргическом сне, куда отправился он и с кем решил сразиться, все поймут – но болтать о догадке не станут. Смертью своей он как бы предупредит ломбардцев и иезуитов о том, что я жива, – и уже потому он согласился на подобную смерть.
Впрочем, выбирать ему было не из чего…
Иегуда встал ногами на скамейку и просунул руками голову в петлю, затем уложил веревку аккуратно на плечи.
– София, ты умрешь здесь, – сказал он гордо. – И тело твое выбросят на парижскую свалку. Чтобы растерзали тебя там собаки и вороны.
А ведь этот некогда яркий красавец нравился мне тридцать лет назад. Если бы он не сбежал из замка, я бы сделала его своим любовником. И кто знает, как бы повернулось все…
– Ты молодец, – ответила я, – ибо ты умеешь умирать. Но…
Мне не хотелось, чтобы враг мой отправился на тот свет с чувством исполненного долга и торжеством в душе.
– Это – всего лишь летаргический сон. Фокус твой я разгадала, – заявила я. – То есть для того, чтобы втянуть меня в этот мир… – обвела руками безжизненную пустыню с по-прежнему неподвижно сидящей на ветке ящерицей-хамелеоном, – … ты сам впал в летаргический сон.
– Нет! – воскликнул он.
– Да, – улыбнулась я. – Ты не стал возражать, когда я тебе минуту назад сказала об этом. А сейчас понял, что я хочу сказать дальше.
– Нет! – еще громче закричал он. – Ты не можешь знать этого!
– Ты впал в летаргический сон для того, чтобы ввести меня в него и удерживать здесь взаимным притяжением, – продолжила я. – Ты очень хорошо все рассчитал, но…
– Нет! – завопил он громче прежнего.
– Но как только один из нас умрет, связь между нами прервется – и…
– Не-ет! – завопил он что есть мочи.
– Победила я. Потому, как только умрешь ты, я проснусь. Просто проснусь.
– Нет! – орал он истошным голосом. – Этого не может быть! Не надо! Не!..
Иегуда взмахнул в отчаянии руками, покачнулся, скамейка под ним качнулась.
– Стой! Я прошу тебя!
И вновь взмахнул руками. Скамейка опрокинулась – и тело Иегуды повисло в воздухе, извиваясь, разбрасывая ноги в стороны, развеваясь седыми волосами… Одна рука почти достигла шеи с веревкой, но на половине пути застыла и обвисла… Тело забилось в конвульсиях… Глаза вытаращились, толстый красный язык вывалился из распахнутого рта… И только тут раздался знакомый хруст сломавшихся под весом тела позвонков.
На перекладину виселицы тяжело опустился невесть откуда взявшийся здесь стервятник…
2Я проснулась на руках продолжающего сидеть возле трактира Порто и, сладко потянувшись, спросила:
– Мы уже пришли к тебе, дорогой?
– Да, – ответил он растерянным голосом. – Мне показалось, что ты умерла. Ты даже не дышала.
– Поцелуй меня, – попросила я нежно.
И он впечатал мне в рот огромные, пахнущие жевательным табаком и пивом губы, щекоча усами и нос мой и подбородок.
Это была настоящая жизнь…
Глава четырнадцатая
София наказывает насильников
Обычно люди не стоят внимания Аламанти. Достаточно человека использовать, а потом забыть о нем. Ибо вся эта чепуха с болтовней о благодарности свойственна равным по положению, происхождению, знатности. Уже какой-нибудь купчик не почувствует благодарности к своему слуге, если тот вытащит его пьяным из проруби. Скажет: «Заплачено!» А уж дворянин всякую услугу низкородного объявит честью для того и потребует еще и заплатить себе за то, что помощь от плебея принял, – согласился, например, быть вынесенным из пылающего дома. Король и вовсе весь народ свой почитает собственностью, использует подданных да и отшвыривает, как вещь ненужную. Аламанти выше королей, посему и благодарность моя по отношению к толстяку, пронесшему меня на руках через половину Парижа, могла быть достаточной, если бы я его просто не убила.
Но Порто!.. Ах, этот великан Порто!.. Гвардеец роты де Зессара, оказавшийся в постели увальнем и неумехой, стесняющийся своей наготы и старающийся меня не поранить, не обидеть, не сделать мне больно… Он был так занят заботой обо мне, что мужской плуг его, оказавшийся тоже не ахти каким большим и совсем не толстым, то и пело увядал и норовил выскользнуть из меня.
Как ни странно, но мне было все это приятно. Никто за многие годы ни разу не спросил меня в постели:
– Тебе больно?.. Тебе удобно?.. Тебе не тяжело?
И спрашивал он искренне, переживал за меня, хотя и считал лежащую под собой женщину чем-то вроде навоза людского, прихваченного на грязной улице в квартале проституток и убийц, принесенного домой, как выброшенная кем-то вещь, и самой себе, в общем-то, ненужная. Была бы понятна такая заботливость, если бы он знал, кто я такая, если бы даже не верил, что я – Аламанти, но все равно был бы ласков. Но нет, он видел во мне просто усталую, испуганную женщину, которую он подобрал, обогрел, а она в благодарность подарила ему то, что может дать мужчине самая нищая женщина. При этом Порто действительно был настолько неопытен, что не сумел оценить моего мастерства в любовном деле, того, как сумела я его дважды возбудить в моменты спада его возможностей, как легко и ненавязчиво оседлала его, а после заставила уснуть.
Разумней всего было покинуть его утром. Порто бы и не вспомнил о прихваченной им на улице нищенке, а если бы и вспомнил, то никому бы не рассказал о том. Разумней было так поступить, если бы у меня было куда идти в Париже. Теперь, когда преследователи мои далеко от Анжелики и знают, что я сгорела заживо, мне надо только выждать несколько дней – и все те, кто разыскивал меня, чтобы присвоить деньги Аламанти, вынырнут на белый свет. Каждому из врагов моих будет лестно заявить вслух, что это его заслуга – уничтожение проклятой колдуньи…