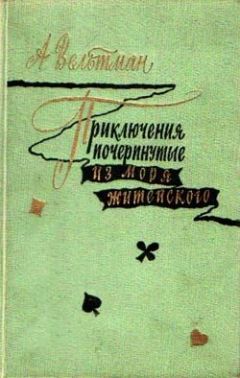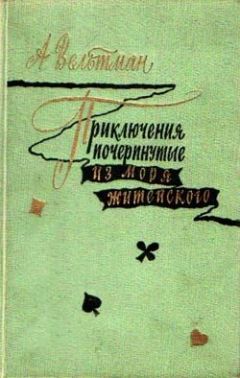— В угождение тебе я выпью чашку, — сказала Саломея Петровна, садясь на стул и заводя разговор с Дмитрицким об отчаянных положениях, в которые люди могут впадать.
Между тем как старуха и девушки хлопотали о самоваре, бегали в лавочку, то за водой, то за сухарями, то за сливками, Саломея Петровна могла свободно вести с Дмитрицким разговор, никем не нарушаемый.
— Что страдания бедности, — говорит Дмитрицкий, — ничего! Эти люди живут все-таки посреди своих грязных привычек, сыты и счастливы; истинные несчастия не посереди этого класса людей, а в высшем сословии, посереди довольствия животного… там истинная бедность — бедность духа, и недостатки — недостаток сочувствия, недостаток любви.
— Ах, как вы знаете сердце человеческое! — сказала вне себя Саломея Петровна, — и этим недостаткам ничем нельзя помочь!
— Да, кто слаб душой, о, тот не вырвется из оков, в которые его могут бросить обстоятельства… Но знаете ли… я буду с вами откровенен, как ни с кем в мире… но, между нами.
Румянец довольствия пробежал по лицу Саломеи Петровны.
— О, верно, во всяком случае эта откровенность будет вознаграждена взаимной, — сказала она.
— Я искал любви и сочувствия; но отец и мать требовали, чтоб я женился на девушке по их расчетам — я женился…
— Вы женаты?
— Да, я женился; но у меня нет жены, ну, просто нет! Есть какое-то существо, которое ест, пьет, спит, ходя и лежа ничего не чувствует, ни об чем не мыслит; я уехал и изнываю без пристанища сердцу! Кто теперь достоин более сожаления — я или эти всепереваривающие желудки?…
— О, я вас понимаю! — произнесла Саломея Петровна, едва переводя дыхание и подавая руку Дмитрицкому, — я вас понимаю, и никто вас так не поймет!
— Как дорого это сочувствие! — сказал Дмитрицкий, прижав крепко руку Саломеи Петровны к устам.
— Ах, теперь я не в состоянии; но в следующий раз, когда мы увидимся, я открою вам и мои сокровенные тайны и мои страдания.
— У вас в доме наш разговор не может переходить в излияние откровенности, — сказал Дмитрицкий задумчиво.
— Ах, да! вы это поняли.
— Понял. Здесь, сочувствуя угнетенным несчастиями, мы можем сочувствовать и друг другу.
— Ах, это правда, — произнесла Саломея, вздохнув глубоко и остановив томный взор на Дмитрицком.
Допив чашку чаю, она встала.
— Завтра я посещу вас опять; я позабочусь об вас. Не утомляйте себя, милые, трудами, отдохните.
Бросив прощальный взгляд на Дмитрицкого, она вышла.
— Фу! свалилась обуза с плеч! Ну, прощайте, и мне пора! — сказал Дмитрицкий потягиваясь.
— Конечно, чего ж еще более! — сказала горделиво отвергнувшая честь поцеловать руку Саломеи Петровны.
Дмитрицкий вышел.
Дмитрицкий — разбитная голова; об этом и спору нет. Большая часть читателей, вероятно, уже догадались, для каких причин, пользуясь чувствами великодушия, про которые так много говорила Саломея, возбудил он в ней сострадание к несчастному семейству, погруженному, как говорится, в пучину бедности. Может быть, догадливые читатели полагают, что он, пленившись Саломеей, желал сам воспользоваться ее великодушием? Нисколько. С первого взгляду он ее возненавидел и, осмотрев с головы до ног, назвал по-латыни зверем. Когда же она заговорила о великодушии, которое так свойственно человеку и которого ни в ком нет, разумеется, кроме ее, тогда, вы помните, он воскликнул: «Великодушие? о! это пища души! Я не знаю ничего лучше этого! я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!» Саломея скромно отвечала: «Да, я очень чувствительна».
«Ах ты, великодушный, чувствительный демон!» — подумал Дмитрицкий.
— Скажите, пожалуйста, что за человек муж этой прекрасной дамы, с которой вы меня познакомили? — спросил Дмитрицкий у Михаила Памфиловича по окончании литературного вечера.
— Федор Петрович очень добрый, прекраснейший человек, — отвечал Михайло Памфилович, — он из военных.
— Неужели? открыто живет?
— О, как же!
— Она меня звала завтра к себе, да людей моих нет; а мне нельзя же свиньей явиться в гостиную.
— Попробуйте, не впору ли будет мой фрак.
— В самом деле. Может быть, чуть-чуть узок; но ведь портные говорят, что все, что широко — ссядет, а что узко — раздастся.
— Поедемте вместе.
— Вместе? нельзя: мне надо завтра сделать несколько визитов, и потому не могу определить именно время, когда попаду к ней.
— Будете у кого-нибудь из здешних литераторов?
— Разумеется.
— Вы знакомы с Загоскиным?[54]
— Вчера только первый раз видел его у вас.
— Ах, нет, вы ошиблись, — сказал Михайло Памфилович покраснев, — он обещал быть, но не был.
— А кто ж это такой из известных литераторов московских был у вас, причесан а ла мужик, и все читал стихи о демоне?
— Ах, это Зет; это его поэтическая фамилия, он подписывает Z под стихами своими. Как понравились вам стихи его? Я хочу их поместить в альманахе, который издаю.
— Не дурны, очень не дурны.
— Не правда ли, что много огня?
— Тьма! да и нельзя: демон без огня — черт ли в нем.
— Я хочу обратиться и к вам с моей просьбой; я уверен, что вы не откажете украсить своим именем мой альманах: все литераторы участвуют в нем… что-нибудь, хоть маленькую повесть.
— Пожалуй, пожалуй, извольте; какую вам угодно повесть?
— Да какую-нибудь.
— Нет, для чего же какую-нибудь, вы просто скажите, какую вам хочется?
— Что-нибудь в русском духе.
— Пожалуй, с величайшим удовольствием, отчего ж не сочинить.
— Какие условия угодно вам будет назначить? Я на все согласен,
— Какие условия?
— С листа ли угодно будет назначить цену, или за все сочинение?
— Разумеется, за все. Загоскин, кажется, взял за роман сорок тысяч,
Михайло Памфилович побледнел.
— Ведь это роман, — сказал он.
— Да, я роман вам и напишу.
— Ах, нет, в альманах нельзя поместить романа: какую-нибудь маленькую повесть… листа в три печатных.
— Ну, за повесть можно взять дешевле, за повесть можно взять половину.
— Нет, уж, сделайте одолжение, по листам; мне иначе нельзя.
— Вы что ж полагаете за лист?
— Двести рублей.
— Только? Двести рублей за целый лист кругом? Вы думаете, что легко исписать целый лист? Да я не возьму тысячи рублей.
— Как это можно, я не могу столько заплатить.
— Вы не можете? Позвольте не верить! Составляет ли это счет для вас! Неужели вы перебиваетесь?