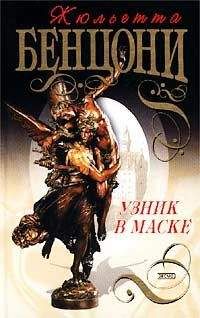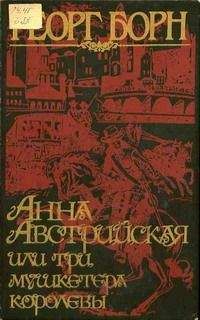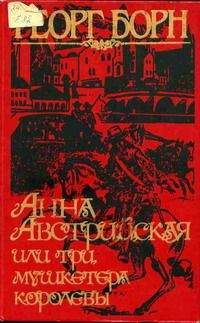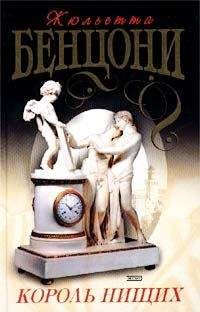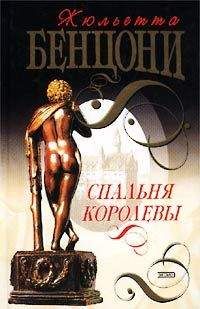Эта райская обитель не могла не беспокоить ревнивцев и завистников. Первым среди них был еще один доверенный человек Мазарини по фамилии Кольбер. Выходец из семьи купцов и банкиров из Реймса, этот человек и своим внешним обликом, и внутренним содержанием был полной противоположностью суперинтенданту. Насколько Фуке был гибок, дипломатичен, изящен и утончен, насколько преуспел в мастерстве обольщения ближних, настолько груб, негибок, невзрачен и неотесан был его недруг Кольбер. Только в двух сферах они могли соперничать на равных, умом и трудолюбием они были друг другу под стать. Между такими людьми не могло не разгореться настоящее противоборство, пусть и на тупых клинках, тем более что хитрец кардинал исподволь науськивал их друг на друга, надеясь таким способом сохранить власть над обоими. Девиз «разделяй и властвуй» как нельзя лучше подходил коварному министру, тоже обогатившемуся сверх всякой меры и косо смотревшему на любимчика судьбы — суперинтенданта.
Персеваль де Рагнель, связанный с семьей Фуке не меньше, чем Сильви, не без опаски наблюдал за роскошной жизнью своего молодого друга, но не торопился делиться опасениями с крестницей. После смерти своего друга Теофраста Рено до, отошедшего в лучший мир семью годами раньше, он уже не был осведомлен о событиях в Париже и при дворе так подробно, как прежде, однако на протяжении всех перипетий Фронды пристально наблюдал за поведением Мазарини. Кроме того, любопытство Рагнеля удовлетворяли многочисленные и тщательно отобранные друзья. Не довольствуясь одной политикой, он воспылал страстью к ботанике и медицине. На пороге седьмого десятка он превратился в мудреца и, отлично разбираясь в людях, предвидел, что Мазарини рано или поздно предаст Фуке.
Хитрец, пройдоха, тонкий дипломат и прожженный политикан, министр был к тому же неисправимым скрягой, сребролюбцем, страдал болезненным тщеславием и завистью, причем с возрастом все сильнее. К этому добавлялась болезнь, медленно разрушавшая былую его неотразимость, от которой в конце концов, осталось одно воспоминание. Сам он все отчетливее чувствовал, что у него остается мало времени для наслаждения накопленными богатствами. Фуке был, напротив, молод, красив, пользовался огромным успехом у женщин и уважением у мужчин, а богатством не уступал самым состоятельным соотечественникам. Неудивительно, что он уже отодвигал в тень министра, сумевшего вызвать всеобщее презрение, но еще сохранявшего реальную власть.
То, как Мазарини подталкивает наверх Кольбера, раньше служившего отцу и сыну Леталье, не могло не рождать подозрений, однако самоуверенный Фуке ни о чем не желал слышать. Его герб со стоящей на задних лапках белкой и тщеславным девизом «Quo non ascendet « все еще сиял в лучах успеха. В конце концов, Персевалю пришлось замолчать, памятуя о том, что противостояние судьбе — напрасный труд.
Со времени смерти Жана де Фонсома он опекал Сильви, рядом с которой находился большую часть времени, и почти не показывался в своем доме на улице Турнель. Там заправляла деловитая Николь, которой помогал Пьеро, превратившийся в рослого, основательного молодого человека. Пользуясь богатой библиотекой герцогов де Фонсомов, Персеваль почти не тосковал по собственным книгам. Крестница и ее дети, к которым он относился как любящий дедушка и которые любили его, как своего родного деда, были с его точки зрения наградой, ради которой можно было многим пожертвовать. Кроме того, поселившись у Сильви, он перестал представлять препятствие для брака Жаннеты и Корентэна, носившего теперь титул интенданта семейных владений. Персеваля удручало, что у этой пары не рождаются дети, но тем большей была его привязанность к Мари и Филиппу. Все они, включая Марию де Шомбер и семейство Фуке, образовывали вокруг Сильви кольцо любви и внимания, заботясь, чтобы ее жизни больше ничто не угрожало.
Однако королевский указ пробил в этом оборонительном кольце брешь. Оставалось гадать, какие ветры станут там гулять и каких бед наделают.
На следующее утро гости поместья Фонсом разъехались. Королевский мушкетер, звавшийся Бенином Довернем, господином де Сен-Маром, выехал в Экс, а вдова маршала Шомбера вместо того, чтобы вернуться в Антей, отправилась в Ла-Флот, навещать свою захворавшую бабку. Что касается Сильви и Персеваля, то они, оставив разочарованного Филиппа в обществе аббата Резини и Корентэна Беллека, тоже удалились, Сильви — в свой дом в Конфлане, близ Венсенского леса, Персеваль — к себе на улицу Турнель, готовиться к поездке. Жаннета предпочла сопровождать герцогиню.
— Не могу оставить ее беззащитной! — заявила она мужу. — Новый двор вряд ли окажется лучше старого.
— Не придумывай отговорок! Просто тебе хочется стать свидетельницей праздника по случаю бракосочетания короля. Что ж, это вполне естественно, — ответил Корентэн с улыбкой.
— Твоя правда, — отвечала она. — Но все-таки я не люблю, когда мы с ней в разлуке. Мало того, что она да я — молочные сестры; после того, как наших матерей убило это чудовище Лафма — желаю ему вечно корчиться в аду! — наши узы стали воистину нерасторжимыми.
— Полагаю, это называется привязанностью, — пробормотал Корентэн. — Конечно, о мертвых нельзя говорить дурно, но после его исчезновения мне как-то легче дышится!
— Он заслужил свою участь. Такого мучителя должна была рано или поздно настигнуть справедливая кара.
Речь шла о событиях одного зимнего вечера. Слуги Лафма, прозванного «палачом кардинала Ришелье», в испуге прибежали в церковь Сен-Жюльен-ле-Повр, вопя, что к их господину явился сам дьявол, заперся с ним в комнате и подверг нечеловеческим мучениям. К слугам присоединились соседи, решившие провести всю ночь в молитвах; никто не осмелился пойти и взглянуть, что происходит в действительности. Только утром, образовав внушительную толпу, люди решились войти в дом, где застали кошмарную сцену, на кровати, залитой кровью, изогнулся в последней судороге, принимая мучительную смерть, обнаженный труп. Искаженное мукой лицо и вылезшие из орбит глаза выражали безумный ужас. На лбу трупа красовалась Красная сургучная печать с греческой буквой омега; все тело было залито уже затвердевшим сургучом, что делало эту смерть еще чудовищнее.
Никто из пришедших не посмел дотронуться до умершего. Вызванные монахи из ордена Милосердных Братьев принесли ведра со святой водой, чтобы обмыть бывшую грозу Парижа и окрестностей. Все в один голос твердили, что негодяй стал жертвой проклятия, хотя в тот же день в час наибольшего скопления народу на Новом мосту некто в черном, в шутовской маске, влез на постамент памятника Генриху IV и объявил, что это он, капитан Кураж, расправился с подлым мучителем женщин. После этого заявления человек в маске запрыгнул на парапет моста, выстрелил себе в голову из пистолета и свалился в Сену…