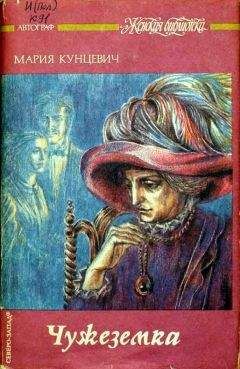Точно такое же отвращение к собственной жизни охватило меня после того, как я прочла письмо Михала. В сентябре Михалу исполнилось двадцать два года. Я прекрасно понимала, что тогда, в Луцке, он отстал от меня не случайно. И что тот рождественский вечер, когда моим нежностям он предпочел кочергу, незаметно разросся в сотни вечеров, а мой союз с Фредди компрометировал меня куда больше, чем моя любовь к Яну. Но все же я решила тотчас же ехать за Михалом в Германию.
И снова Франтишек выбил из моих рук оружие. Франтишек постарел, пышная шевелюра давно облезла, появилась искусственная челюсть, но интереса к чужим судьбам он не утратил. Вскоре после нашего телефонного разговора он приехал в Пенсалос, привез мне на подпись всевозможные документы и бланки, которые я должна была заполнить. «Фредди никогда бы не допустил, чтобы ты поехала. У тебя нет нужных связей. У меня они есть, и я поеду за Михалом».
Я успокоилась. Магия воскресшего, чисто вещественного контакта пробудила во мне самые дорогие воспоминания. Рука, писавшая это письмо, когда-то, в младенчестве, сжатая в кулачок, касалась моего лица, склоненного над коляской. Губы, которые касались краешка конверта, когда-то жадно хватали мою грудь. Мне вспомнились первые сказанные им слова, толстые ручонки, обвивавшие мою шею, радость примирения, ребячьи шалости. Мое собственное детство и детство Михала слились воедино, и глаза наполнились слезами.
Франтишек уехал и долго не возвращался. А я все читала и вновь перечитывала письмо Михала и постепенно угадывала в нем иной смысл. Разве таким должно быть письмо сына к матери, которой он не видел шесть лет? Суховатым? Ироничным? Кто знает, к чему теперь тянулись эти, когда-то беспомощные, руки и какие, может быть, недобрые слова готовы были сорваться с этих губ. Даже мысль о том, что Михалу пришлось перенести, вызывала у меня скорее раздражение, чем сочувствие. Ведь он нарочно тогда остался в Луцке! Выбрал не меня, а отца! И почему он за шесть лет не написал мне ни слова, не пробовал разыскать через Красный Крест, как делали это другие люди? И почему он вдруг захотел, чтобы я родила его заново, для иного мира, теперь, когда молодость моя прошла и боль предвещает не радость, а смерть? Получив телеграмму Франтишека, я встрепенулась было, как испуганная утка. Но сил уже не было.
Михал приехал в Лондон десятого сентября сорок шестого года. Вечером Франтишек позвонил мне и передал ему трубку. «Мама?» — спросил мужской голос, чужой, незнакомый, а вместе с тем трогающий душу, исполненный затаенных намеков. Я испугалась. У моего сына и вдруг такой голос! Слово «мама» прозвучало как имя женщины, с которой ее прежний любовник хотел бы снова встретиться. В ответ я пробормотала что-то невнятное.
Один бог знает, что мне снилось этой ночью. Утром я написала Франтишеку письмо, в котором просила его на какое-то время задержать Михала в Лондоне. «Отведи его к врачам, — писала я, — покажи музеи. И только, ради Бога, — не тащи к «ветеранам», пусть он забудет о прошлом. Напиши мне, какой он теперь». Письма Франтишека я сохранила. Вот отрывки из них, касающиеся Михала:
«20 сентября 1946 года.
Дорогая Притти, как ты мне велела, я взял Михала к себе. Какой он, я пока не знаю. Долговязый, худой, с неправильными чертами лица и ловкими руками. Английский он знает скверно, но и по-польски разговаривает неохотно. Он никогда сразу не соглашается делать то, о чем его просишь, а потом, когда уже я думаю о чем-то совсем другом, вдруг идет на уступки. Если бы не его улыбки, неожиданные, словно скоропостижная смерть, я вообще бы утратил к нему всякий интерес. Сначала он отталкивает людей, а потом снова приманивает их, как ребенок, пускаясь на всякие уловки, сопротивляться которым невозможно. Обожает цирк. С жокеем, с которым познакомился на скачках, легко нашел общий язык. С врачами дело пошло труднее. Он все выкручивался, не хотел к ним идти, пока я не пригрозил, что созову дома консилиум. Доктор, должно быть, изрядно с ним намучился, но все же осмотрел и сделал рентген. По мнению доктора, в лагере Михала подвергали пыткам. Это видно по рентгеновским снимкам.
О том, что было до войны, он знает мало. Впрочем, я, кажется, знаю, как его приручить…»
«24 сентября 1946 года.
…Я познакомил Михала с одной молодой ирландкой, Кэтлин Мак-Дугалл, которая изучает психофизиологию и работает лаборанткой в психиатрическом отделении больницы. Я хорошо знаю всю семью. Отец типичный белфастский генерал. По натуре — холерик. Сейчас он вышел в отставку, живет в Лондоне и своей скупостью изводит жену и дочь. Мать — поклонница оккультизма и страстная меломанка. Экономит на еде и покупает пластинки. Я затащил к ним Михала, они живут совсем рядом. Старик хорошо разбирается в лошадях и сразу понравился Михалу. Дочка себе на уме. Сегодня сообщила по телефону, что Михал вчера к ним заходил и они отправились в кино. Она уговорила его пойти в клинику к психоаналитику… Хитрость удалась…»
«30 сентября 1946 года.
Ирландка одержала верх! Михал поддался тестам и ходит в клинику на процедуры. Мне сказали, что у него в свое время была травма позвоночника, но последствий как будто нет. Сейчас, кажется, все в порядке, кроме нервов. Процедуры сделали свое дело. Большой разницы в поведении его я не замечаю, но все же сын твой несколько поправился, иногда у себя в комнате поет, подражая птичьим голосам, и очень прилично играет на аккордеоне, который прихватил с собой из Германии. «Откуда он у тебя?» — спрашиваю. Отвечает: «Организовал». В больнице говорят, что лечение продлится еще месяц… То ли ирландка вызвала его на откровенность, то ли психоаналитик, не знаю, но по выражению ее лица догадываюсь, что она о нем знает больше, чем я. Что касается отца, то Михал за все время не сказал о нем ни слова. Когда я спросил его, он буркнул: «Ведь вы же знаете». И это все.
Милая Притти, когда нам было столько лет, сколько сейчас ему, мир был больше и человек больше значил. Михал ведет себя так, словно бы полностью потерял представление о времени и пространстве. Сначала нес какой-то вздор о подводной ловле где-то в Исландии. В Пенсалос ехать отказался. И неожиданно вдруг дал свое согласие на Корнуолл. «Когда?» — спросил я. Он только махнул рукой. Неделя, год, север, юг — ему все равно. Но мне кажется, что он вполне жизнеспособен. Ест много, спит долго, хотя во сне часто кричит и разговаривает.
Я заметил, что он любит девушек, животных, и еще он очень хотел, чтобы врачи поставили ему фарфоровые пломбы…»
Это то, что я узнала от Франтишека. В Пенсалосе Михал появился в середине октября. Он оказался примерно таким, каким я представила его по описаниям, только более красивым. Он и в самом деле был неразговорчив, а если и отвечал на вопросы, то очень резко, лишь бы отвязаться. Только взгляд у него был мягкий и чуть сонный. Вначале я никак не могла к нему привыкнуть. Он прошел сквозь два круга ада — восстание и лагерь, о которых я знала, и еще сквозь многие круги, о которых не хотела знать. Но все это говорило само за себя. И я знала, что счастье для выходца из ада не купишь по сходной цене. Мне стыдно было перед ним, а не за него, как ему когда-то, в довоенные времена, было стыдно за меня. Он был моим сыном, а явился чужим, не моим сыном. Его тело казалось незнакомым. Оно было чужим, познавшим жизнь и даже пытки. Мне хотелось знать, остались ли на теле их следы. Может быть, ему больно. Погода все еще стояла отличная, цвели японские анемоны и осенние крокусы, на другой день после приезда я повела Михала на пляж — загорать. Следов на теле не было. Кожа на плечах, груди, на шее, на спине и ногах была белой и гладкой, и сложен он был отлично. Значит, эта боль, эти бичи, эти удары ушли куда-то вглубь.