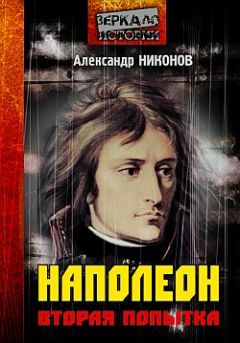— Да, майор, — тише обычного откликнулся лейтенант, боясь раздразнить еще больше своего шефа, который, казалось, так и кипел от злобы.
— Проследите за этой женщиной. Держите ее в поле зрения и днем и ночью.
— Я понял вас, мсье, — ответил лейтенант. — Будут еще распоряжения насчет дамы?
— Пока никаких. Это все делается ради ее же безопасности. Есть приказ, согласно которому нельзя допустить, чтобы ей нанесли какой-нибудь вред. Никто! Вы меня поняли?
Он вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Оставшуюся часть утра он посвятил изучению полицейского досье на графиню Валентину Грюновскую.
* * *
— Вы понимаете, графиня, что вам некого винить во всем случившемся, кроме себя самой?
Потоцкий не собирался показывать свою обиду. Он холодно и спокойно обвинял ее в том, что, говоря выспренним языком, именовалось изменой Родине и супружеской неверностью. Было досадно, что неделя, проведенная в Люблинской тюрьме, не сделала ее сговорчивей. Она смотрела на Потоцкого в высшей степени безразличным взором. Ее не бросили в подземный каземат (и в этом пункте Потоцкому пришлось нажать на ее мужа), а поместили в одну из камер на верхних этажах. Ей доставляли отличную пищу, разрешили носить одежду, которая была на ней в момент ареста, и обращение с ней тюремщиков не отличалось грубостью. Потоцкий был человеком осторожным, он не спешил оскорблять женщину, пока не было ясно, как разовьются дальше события.
— К сожалению, — сказал Потоцкий, — я убедился, что вы неисправимы!
— Я не вполне понимаю, чего же вы от меня ожидали, — ответила Валентина. — Вы обвинили меня в предательстве и адюльтере. Но я избежала этих грехов. Если вы собираетесь предать меня суду, то я вправе рассказать на суде все, что мне известно. Я не вижу, почему в этом случае мне нужно будет сделать исключение для вас. Вы мой враг.
Она села, отвернув от него голову. В тюрьме обнаружилось ее сильное истощение — и нервное, и физическое. Тюремный врач пытался подлечить шрамы, оставшиеся у нее на запястьях от тугой веревки, и разрешил ей отсыпаться чуть не круглые сутки. Потоцкий был первым человеком, посетившим ее по ее делу, и она благодарила Бога, что к ней не явился ее муж. Теодор грубо швырнул ее к ногам начальника тюрьмы, когда привез сюда. Когда он узнал, что ее не собираются держать в нижних, полных крыс, сырых казематах, он чуть не расплакался от злости и принялся убеждать тюремщиков, но те были непреклонны… Ее уже увели по коридорам, но отголоски его визгливой брани неслись ей вслед…
Валентина через плечо посмотрела на величавого сановника, который еще так недавно был ее гостем и целовал ей руку в сверкающей зале… Сейчас в его лице не было ничего, кроме непреклонной враждебности. Она подвела его, и он не простит этого. Он покарает ее смертью и будет считать, что именно этого она и заслуживает. В его лице не было и не могло появиться жалости к ней, понимания того, что нежданная любовь придала ей силы восстать против богомерзкого дела, навязанного ей Потоцким и ее мужем… И даже если бы он узнал, что Грюновский избил ее, чтобы принудить пойти в постель к Мюрату, это не смягчило бы черты его нечеловечески важного лица. Он думал о высших государственных надобностях, и страдания женщины, случайно попавшей в жернова политики, его не интересовали.
— Уходите, прошу вас, — сказала Валентина бесстрастно. — Я устала. Я все вам сказала. Дальше я буду говорить трибуналу. Вам мне больше нечего сказать.
Он нехорошо посмотрел на нее, подошел к двери и крикнул:
— Стража! Стража! Откройте мне!
Стоя у дверей он сказал, не оборачиваясь:
— Не надейтесь, что ваши друзья французы смогут вас вызволить. Последние сведения, полученные из России, говорят о том, что они отступают, неся большие потери. Они уже потеряли три четверти личного состава. Вероятно, ваш любовник, графиня, уже на том свете. Скоро вы встретитесь!
— Надеюсь, — спокойно ответила Валентина. — Я не боюсь смерти, граф, а также прочего, что вы можете со мной сделать.
Когда за ним закрылась дверь, Валентина стала осмысливать сказанное им. Отступление. Она села на кровати и закрыла лицо дрожащими руками. «Ваш любовник, вероятно, на том свете…» Три четверти… Страшные образы проносились перед нею, видение де Шавеля, лежащего мертвым, с развороченным телом, среди залитых кровью трупов… А может быть, он медленно умирает от тяжелых, мучительных ран, пока французская армия тщетно пытается уйти от русских атак и найти теплый приют на холодную зимнюю пору… Валентина представляла, что зима в России может быть еще суровее польской, которая и так доставляла много неприятностей людям, оказавшимся без крыши над головой. В России зимой и мышь не выживет без теплого дома. Птицы там замерзают на лету. А армия Наполеона сейчас в самом сердце страны, без надежных зимних квартир, постоянно в дороге, под ударами озверевших русских войск… Валентина упала на колени и стала молиться. Она не выйдет отсюда живой; не стоит ожидать снисхождения от своих соотечественников или чудесного спасения. Величие Франции клонится к закату, и охранная грамота императора ничего уже не значит. Она будет казнена и никогда более не увидит человека, которого полюбила, полюбила впервые в своей жизни, и даже не узнает, что сталось с ним… И она молилась не за себя, она уже пропала и исчезла для самой себя, растворившись в нем, она молилась только за него, за него…
* * *
Князь Адам Чарторыский был приятным человеком. Он сохранял романтический ореол вокруг себя, который так нравился дамам. Этот же флер романтики привлек к нему и тех польских патриотов, которые, несмотря на посулы Наполеона, продолжали надеяться на доброту русского царя… В ранней юности он был другом царя Александра и в числе прочих либералов сохранял парадоксальную надежду на то, что Самодержец Всея Руси согласится на предоставление широкой автономии свободной Польше. Любовь Адама Чарторыского к русскому царю была такой глубокой, какую только можно представить себе для двух мужчин. Адам был в некоторой степени благодарен Александру за то, что тот не стал его преследовать за любовную связь с императрицей, поскольку боялся скандала. С другой стороны, Адам был несколько разочарован тем, в какой форме Александр потребовал их разрыва.
Но Адам должен был мириться с характером русского царя, поскольку только от него, как он думал, зависело относительно свободное существование Польши. Суверенность Польши была самой заветной мечтой Адама Чарторыского, несшей в себе и угрозу, и надежду, и в этой своей голубой мечте Адам полностью полагался на просвещенность и либерализм царя Александра.